UNO. ГУБЕРНИЯ
ВСЕ О МОЛОКЕ
В 2016 году один из крупнейших производителей молока в Челябинской области – сельхозкооператив «Подовинное» Сергея Петровича Мельникова – пошел в переработку. Этот проект возглавил сын Сергея Петровича – Сергей Сергеевич. Взяв сначала в аренду, а потом выкупив простаивающий молочный завод в Южноуральске, предприятие уже вложило в модернизацию более 300 млн. рублей. И это не предел, говорит собственник. Работая на земле всю жизнь, он отлично знает: предела в сельском хозяйстве не существует. Сегодня завод перерабатывает до 100 тонн молока в сутки, в зависимости от полученных заявок от магазинов и социальной сферы. Запущена новая итальянская линия для производства мороженого на сливках под собственной торговой маркой.
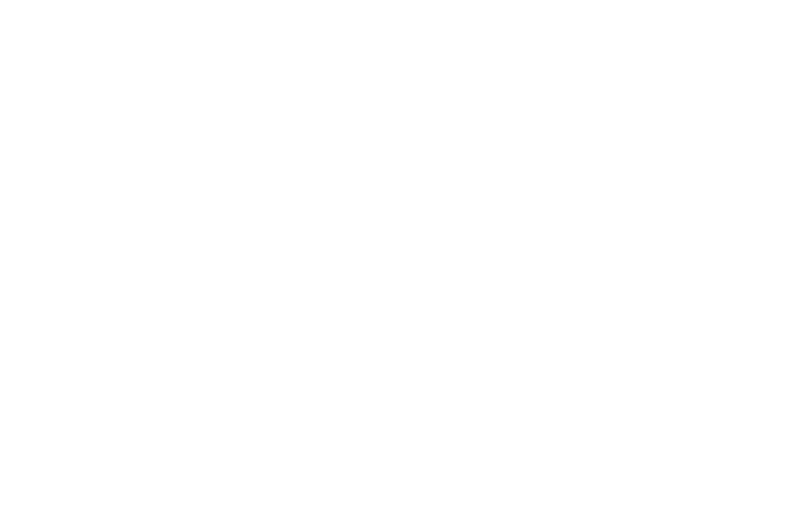
Судьба южноуральского молочного завода сильно похожа на остальные предприятия отрасли. Практически все работающие сегодня производства построены в советские времена, но технически переоснащены и модернизированы за последние 10-20 лет. Молочных заводов с нуля в новейшей истории большой страны практически не строили. Примеры можно сосчитать по пальцам, причем одной руки. Сергей Мельников вспомнил лишь Тюменскую область, где, имея возможности, попробовали. Но особого эффекта не получили, доказав тем самым правильность общего курса. Экскурсию для нас главный технолог южноуральского предприятия Анна Мезенцева начинает с сердца молочного производства – аппаратного цеха. С высоты своего опыта она показывает зрителям, далеким от сельского хозяйства, оборудование для переработки молока, сепарирования и пастеризации, заметно обновившееся за последние четыре года. «В огромных нержавеющих емкостях одномоментно может храниться до 100 тонн молока, – пытаясь перекричать гул производства, говорит технолог. – Его из нашего собственного хозяйства привозят трижды в день по 25 тонн. Сегодня это один из самых серьезных показателей в области».
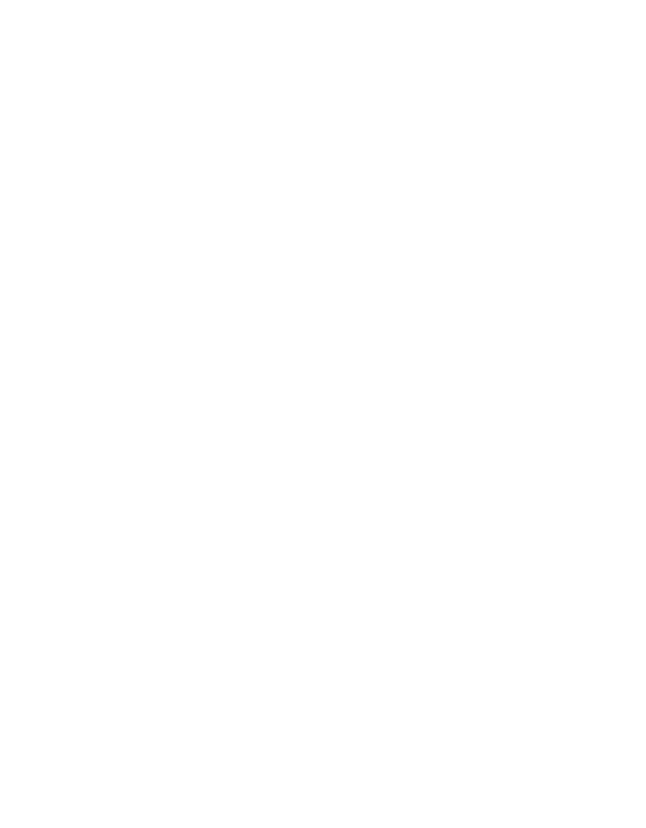
- Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин в интервью UNO, отвечая на вопрос об обеспеченности региона своим молоком, назвал цифру 50%. Ваш коллега Дмитрий Еремин в интервью «Деловому кварталу» заявил, что дефицита молока у нас нет. Хочу узнать вашу точку зрения.
- Если речь о молоке как сырье для молокоперерабатывающих заводов, то область в нем нуждается. Кобылин оценивает ситуацию с точки зрения суммарного объёма реализации молочной продукции в регионе. На магазинных полках доля предприятий, которые осуществляют переработку на территории Челябинской области, 50%. Поэтому Алексей Владимирович делает правильные выводы.
Все стараются быть профицитными: закрывать свои объемы и экспортировать продукцию за границу, продвигать в соседние регионы. Это значительно улучшает финансовую стабильность сельхозпредприятий, которая во все времена была не сильно хорошей. Более высокие объемы производства молока – это более высокая производительность труда, маржинальность, и правительство создает условия, чтобы хозяйства увеличивали их.
Сегодня большинство хозяйств в области мелкие. Их объемы не позволяют сделать бизнес рентабельным. Когда Алексей Владимирович говорит о дефиците молока, он дает сигнал производителям, что существует серьезная проблема, двигайтесь, не бойтесь, в регионе есть потенциал для реализации собственной продукции.
Еремин, мне кажется, имеет в виду другое. У «Первого Вкуса» своя доля на рынке, свой потребитель. Так как половину полок в магазинах Челябинской области занимают производители из других регионов, как правило, Екатеринбурга и Башкирии, это формирует объем продаж у «Первого Вкуса». Для своего объема производства ему достаточно сырья. Но одно дело – производство молока вообще и другое – закрытые потребности собственного молочного холдинга. Первый вопрос – государственный. Второй – частный.
- Правильно ли я понимаю: четыре года назад вы пошли в переработку, потому что цена на сырое молоко, низкая маржинальность не позволяли хозяйству развиваться?
- В производстве сырого молока существует специфика. Хозяйство с небольшим объемом производства и высококачественным молоком интересно практически всем переработчикам. Почему? Потому что, имея под рукой несколько мелких игроков, переработчик может периодически отказываться от одного-двух. Особенно летом, когда молока много, а потребление падает, завод регулирует объемы переработки – не берет лишнего сырья.
В «молоке» принципиальное значение имеет долгосрочность контрактов. Никто не хочет «заключаться» на короткие сроки. С небольшими хозяйствами переработчики молока толкуют: «Давай увеличивай объемы». Ты начинаешь увеличивать, доходишь до психологической цифры 25 тонн. Это приличный объем, а для завода – порог, за которым ситуация перестает играть ему на руку. Ему интересно работать с тобой как с крупным производителем, но отказаться от тебя летом он не может. Было бы пять производителей по пять тонн, он бы на время с одним остановил сотрудничество, со вторым. А мы, так как крупные и способны диктовать условия, не позволяем ему это делать.
Начинаются противоречия, и завод, особенно если он монополист, решает все легко и просто. Он ни с кем не разговаривает, просто берет и роняет цену: «С этого дня я буду платить вот столько». У него экономика не меняется от сезона к сезону, а у нас кривая доходности резко проваливается. Если разделить среднюю цену на год, получается работа ради работы. При том что рисков, трудозатрат, финансовых затрат огромное количество.
Вопрос встает, развиваться или не развиваться. Вроде надо. Когда мы начали производить 45-50 тонн, оказалось, что заводов, готовых взять на себя такие объемы, сегодня мало, а способных платить достойные деньги и стабильно выполнять обязательства – еще меньше. У нас получилась вилка: мы растем в объемах, а переработчик тут же нивелирует это снижением цены на нашу продукцию, потому что рынок у нас монополизированный.
- Сколько сырья ваше предприятие перерабатывает и готово ли увеличить объем?
- Понятно, что все заводы хотят выйти на максимальный объем, обсуждать даже нечего. В настоящее время перерабатываем до 100 тонн, хотя наши производственные мощности позволяют перерабатывать до двухсот тонн в сутки, а при небольшой модернизации – еще больше.
В это время на заводе новый аппарат фасует сметану. Оператор загружает на конвейер стаканчик, остальной процесс идет уже без его непосредственного участия, но под его пристальным контролем. Заправить аппарат, проверить дозировку, проконтролировать вес. Емкости на 200 и 400 граммов – в зависимости от выбранной программы – дозатор быстро заполняет белой густой субстанцией, просветив ее перед этим ультрафиолетовой лампой и сразу после закрыв крышкой. Сделав круг почета по конвейеру, готовый к продаже продукт получит свой последний штрих – пластиковую крышку. Одинаковые стаканчики автоматически укладываются в коробки по 6 штук. За сутки получается до 10 тонн натуральной сметаны. Но прежде чем попасть на прилавок, она еще сутки проведет в холодильнике. Рабочий процесс на этом конвейере, как и почти везде на заводе, идет в режиме «полуавтомат». Новейшие зарубежные технологии с полной автоматикой и двумя-тремя сопровождающими сотрудниками, как правило, приходят только в большую производительность – на мега крупные заводы. Это игроки из другой лиги, говорит Сергей Мельников, у нас таких нет. Тем не менее, южноуральское предприятие он намерен автоматизировать до максимально возможного уровня. Коробки для той же продукции, которые еще буквально вчера вручную собирали сотрудники, сегодня собирает специальный аппарат.
- Те, кто сам перерабатывает молоко, как правило, гордятся, что у них кормовая база своя, и коровы свои, и собственная переработка. Они говорят: «Мы точно знаем, что это молоко качественное, без консервантов, натуральное, самое замечательное, потому что оно наше от начала и до конца».
- Сегодня исключительно на своих объемах развивать завод не получится. Самое главное, мы берём сырье у одного крупного производителя. Почему есть проблемы с качеством у тех или иных переработчиков? Они гонятся за себестоимостью молока на входе. Низкая себестоимость – это какое молоко? Обычно так называемое сборное. Частные подворья приносят по двадцать литров, их с целого района в одну бочку сливают. Кто как подоил, помыл бидон не помыл – в одну бочку слили: и так сойдет. А современные линии – это машинное доение, мойка, кормление, лечение. На всех коровах висят датчики. Если одна заболела, информация подаётся на компьютер, и он сам убирает её в стадо на карантине. Сегодня всё это автоматизировано, такие технологии внедрены у нас.
- Если речь о молоке как сырье для молокоперерабатывающих заводов, то область в нем нуждается. Кобылин оценивает ситуацию с точки зрения суммарного объёма реализации молочной продукции в регионе. На магазинных полках доля предприятий, которые осуществляют переработку на территории Челябинской области, 50%. Поэтому Алексей Владимирович делает правильные выводы.
Все стараются быть профицитными: закрывать свои объемы и экспортировать продукцию за границу, продвигать в соседние регионы. Это значительно улучшает финансовую стабильность сельхозпредприятий, которая во все времена была не сильно хорошей. Более высокие объемы производства молока – это более высокая производительность труда, маржинальность, и правительство создает условия, чтобы хозяйства увеличивали их.
Сегодня большинство хозяйств в области мелкие. Их объемы не позволяют сделать бизнес рентабельным. Когда Алексей Владимирович говорит о дефиците молока, он дает сигнал производителям, что существует серьезная проблема, двигайтесь, не бойтесь, в регионе есть потенциал для реализации собственной продукции.
Еремин, мне кажется, имеет в виду другое. У «Первого Вкуса» своя доля на рынке, свой потребитель. Так как половину полок в магазинах Челябинской области занимают производители из других регионов, как правило, Екатеринбурга и Башкирии, это формирует объем продаж у «Первого Вкуса». Для своего объема производства ему достаточно сырья. Но одно дело – производство молока вообще и другое – закрытые потребности собственного молочного холдинга. Первый вопрос – государственный. Второй – частный.
- Правильно ли я понимаю: четыре года назад вы пошли в переработку, потому что цена на сырое молоко, низкая маржинальность не позволяли хозяйству развиваться?
- В производстве сырого молока существует специфика. Хозяйство с небольшим объемом производства и высококачественным молоком интересно практически всем переработчикам. Почему? Потому что, имея под рукой несколько мелких игроков, переработчик может периодически отказываться от одного-двух. Особенно летом, когда молока много, а потребление падает, завод регулирует объемы переработки – не берет лишнего сырья.
В «молоке» принципиальное значение имеет долгосрочность контрактов. Никто не хочет «заключаться» на короткие сроки. С небольшими хозяйствами переработчики молока толкуют: «Давай увеличивай объемы». Ты начинаешь увеличивать, доходишь до психологической цифры 25 тонн. Это приличный объем, а для завода – порог, за которым ситуация перестает играть ему на руку. Ему интересно работать с тобой как с крупным производителем, но отказаться от тебя летом он не может. Было бы пять производителей по пять тонн, он бы на время с одним остановил сотрудничество, со вторым. А мы, так как крупные и способны диктовать условия, не позволяем ему это делать.
Начинаются противоречия, и завод, особенно если он монополист, решает все легко и просто. Он ни с кем не разговаривает, просто берет и роняет цену: «С этого дня я буду платить вот столько». У него экономика не меняется от сезона к сезону, а у нас кривая доходности резко проваливается. Если разделить среднюю цену на год, получается работа ради работы. При том что рисков, трудозатрат, финансовых затрат огромное количество.
Вопрос встает, развиваться или не развиваться. Вроде надо. Когда мы начали производить 45-50 тонн, оказалось, что заводов, готовых взять на себя такие объемы, сегодня мало, а способных платить достойные деньги и стабильно выполнять обязательства – еще меньше. У нас получилась вилка: мы растем в объемах, а переработчик тут же нивелирует это снижением цены на нашу продукцию, потому что рынок у нас монополизированный.
- Сколько сырья ваше предприятие перерабатывает и готово ли увеличить объем?
- Понятно, что все заводы хотят выйти на максимальный объем, обсуждать даже нечего. В настоящее время перерабатываем до 100 тонн, хотя наши производственные мощности позволяют перерабатывать до двухсот тонн в сутки, а при небольшой модернизации – еще больше.
В это время на заводе новый аппарат фасует сметану. Оператор загружает на конвейер стаканчик, остальной процесс идет уже без его непосредственного участия, но под его пристальным контролем. Заправить аппарат, проверить дозировку, проконтролировать вес. Емкости на 200 и 400 граммов – в зависимости от выбранной программы – дозатор быстро заполняет белой густой субстанцией, просветив ее перед этим ультрафиолетовой лампой и сразу после закрыв крышкой. Сделав круг почета по конвейеру, готовый к продаже продукт получит свой последний штрих – пластиковую крышку. Одинаковые стаканчики автоматически укладываются в коробки по 6 штук. За сутки получается до 10 тонн натуральной сметаны. Но прежде чем попасть на прилавок, она еще сутки проведет в холодильнике. Рабочий процесс на этом конвейере, как и почти везде на заводе, идет в режиме «полуавтомат». Новейшие зарубежные технологии с полной автоматикой и двумя-тремя сопровождающими сотрудниками, как правило, приходят только в большую производительность – на мега крупные заводы. Это игроки из другой лиги, говорит Сергей Мельников, у нас таких нет. Тем не менее, южноуральское предприятие он намерен автоматизировать до максимально возможного уровня. Коробки для той же продукции, которые еще буквально вчера вручную собирали сотрудники, сегодня собирает специальный аппарат.
- Те, кто сам перерабатывает молоко, как правило, гордятся, что у них кормовая база своя, и коровы свои, и собственная переработка. Они говорят: «Мы точно знаем, что это молоко качественное, без консервантов, натуральное, самое замечательное, потому что оно наше от начала и до конца».
- Сегодня исключительно на своих объемах развивать завод не получится. Самое главное, мы берём сырье у одного крупного производителя. Почему есть проблемы с качеством у тех или иных переработчиков? Они гонятся за себестоимостью молока на входе. Низкая себестоимость – это какое молоко? Обычно так называемое сборное. Частные подворья приносят по двадцать литров, их с целого района в одну бочку сливают. Кто как подоил, помыл бидон не помыл – в одну бочку слили: и так сойдет. А современные линии – это машинное доение, мойка, кормление, лечение. На всех коровах висят датчики. Если одна заболела, информация подаётся на компьютер, и он сам убирает её в стадо на карантине. Сегодня всё это автоматизировано, такие технологии внедрены у нас.
У этого пути оказалось еще одно неоспоримое преимущество – гарантия качества от поля до прилавка. Своя переработка закрыла для «Подовинного» весь цикл – от выращенного на своих полях корма до производства готовой пакетированной продукции. Здесь с одинаковым вниманием следят за состоянием земли и посевов, молочного поголовья и качеством полученной продукции. А потому на предприятии могут точно сказать, что и когда коровы ели, как себя чувствуют и какое молоко производят. Таким подходом к производству сегодня мало кто может похвастаться не только в Челябинской области, но и в России в целом. Экономически это вполне объяснимо. Новое направление в сельском хозяйстве стоит немалых сил и средств.
- Сложно было зайти на рынок?
- Сами понимаете, молоко – продукт первой необходимости, и полки заполнены достаточно, не без помощи поставщиков из других регионов. Мелкой розницы, маленьких магазинчиков, с которыми можно легко и быстро наладить контакт, практически не осталось. Их заместили федеральные сети, а с ними договориться о встрече – как с Президентом. Определённым образом помогли власти. Во-первых, с социалкой. Во-вторых, обратились к федеральным сетям, чтобы те вышли на переговоры с нами. На первых порах сети смотрели на нас с опаской: сможем ли мы стабильно держать качество, объёмы, покрыть территорию? Федералам вынь да положь ежедневные поставки по всей области. Такие условия может выполнить только полноценно работающий завод.
- Вы демпинговали на входе?
- Пытались, но сети съедали наш демпинг своей наценкой. Это сработало как в плюс, так и в минус. Мы были выгоднее других поставщиков, и нас охотнее продвигали. Там рассуждали так: вашу продукцию хорошо покупают, а мы при этом больше зарабатываем. Поэтому на наше развитие сети смотрели лояльно, палки в колёса не вставляли. Но рынок есть рынок: наценки на молочную продукцию законом сегодня не регламентируются.
- Я правильно понимаю, из трех участников рынка: производитель сырого молока – переработчик – ритейл – сливки снимает последний?
- Кто самый развивающийся из трех? Ритейл. Чудес не бывает. Колхозники в этой цепочке на самом дне. Если сравнить с цепочкой пищевой, то производители – в самом конце, они чаще других недоедают. Вообще производство молока сегодня в России считается убыточным. А экономика завода в первую очередь зависит от менеджмента. Бывает, неэффективное управление доводит до банкротства, но это редкие случаи.
- Сложно было зайти на рынок?
- Сами понимаете, молоко – продукт первой необходимости, и полки заполнены достаточно, не без помощи поставщиков из других регионов. Мелкой розницы, маленьких магазинчиков, с которыми можно легко и быстро наладить контакт, практически не осталось. Их заместили федеральные сети, а с ними договориться о встрече – как с Президентом. Определённым образом помогли власти. Во-первых, с социалкой. Во-вторых, обратились к федеральным сетям, чтобы те вышли на переговоры с нами. На первых порах сети смотрели на нас с опаской: сможем ли мы стабильно держать качество, объёмы, покрыть территорию? Федералам вынь да положь ежедневные поставки по всей области. Такие условия может выполнить только полноценно работающий завод.
- Вы демпинговали на входе?
- Пытались, но сети съедали наш демпинг своей наценкой. Это сработало как в плюс, так и в минус. Мы были выгоднее других поставщиков, и нас охотнее продвигали. Там рассуждали так: вашу продукцию хорошо покупают, а мы при этом больше зарабатываем. Поэтому на наше развитие сети смотрели лояльно, палки в колёса не вставляли. Но рынок есть рынок: наценки на молочную продукцию законом сегодня не регламентируются.
- Я правильно понимаю, из трех участников рынка: производитель сырого молока – переработчик – ритейл – сливки снимает последний?
- Кто самый развивающийся из трех? Ритейл. Чудес не бывает. Колхозники в этой цепочке на самом дне. Если сравнить с цепочкой пищевой, то производители – в самом конце, они чаще других недоедают. Вообще производство молока сегодня в России считается убыточным. А экономика завода в первую очередь зависит от менеджмента. Бывает, неэффективное управление доводит до банкротства, но это редкие случаи.
- Сколько сейчас на «Подовинном» дойного стада, если не секрет?
- Секрета нет, это порядка двух тысяч двухсот голов дойного стада, вместе со шлейфом около трех тысяч двухсот.
- На таком большом объёме (к тому же, если все процессы автоматизированы) можно сделать молочное животноводство выгодным? Вы говорите, что выходили в ноль, когда были производителями сырья.
- С тех пор, как занялись переработкой, все изменилось. Мы не берем из одного кармана и в другой не перекладываем. Наше сырьевое направление эффективно. К тому же мы не взяли готовый завод, конфетку. Требовались инвестиции, они постоянно требуются. Чтобы вливать средства в сельхозпредприятие и увеличивать поголовье скота, этот объём молока нужно перерабатывать. Мороженое мы запускаем в том числе с такой целью.
Оборудование для производства любимого всеми десерта влетело предприятию в копеечку. Из 300 млн, вложенных Сергеем Мельниковым в модернизацию, сто ушло только на итальянскую линию. «Итальянцы – законодатели мод и хранители традиций в этой сфере, – Сергей Сергеевич с гордостью демонстрирует новенький конвейер, захватывающий, наполняющий, переворачивающий вафельные стаканчики с застывшей уже воздушной и нежной массой превосходного карамельного цвета и тонким молочным ароматом. – У этой установки отличное соотношение цены и производительности, и это не может нас не мотивировать»…
Сегодня на линии – «крем-брюле» в вафельных стаканчиках. Из состава на заводе большого секрета не делают. Зачем? Это главный козырь для потребителя. «Только натуральные компоненты: сливки, обезжиренное молоко и сахар, – перечисляет главный технолог Анна Мезенцева. – И стабилизационная смесь для мороженого, чтобы добиться нужной консистенции».
- Химия, наверное?))
- Вовсе нет, мы покупаем смесь премиум-класса – это камедь рожкового дерева, пектин и желатин. Именно они позволяют создать нежное тягучее мороженое, способное держать форму.
Под новый продукт специально построили и новый цех, рядом с которым уже возводят склад с морозильной камерой на 1500 кв. метров – на перспективу.
- А какова производительность?
- Около четырех тысяч штук в час. В случае, если проект окажется удачным, мы рассматриваем возможность приобретения более производственной линии.
- Почему вы не купили её сразу?
- Во-первых, она стоит в три раза дороже. Во-вторых, наша линия универсальная. Она делает и эскимо, и стаканчик, и рожок. А та будет узконаправленной – только стаканчик и большой рожок, чем и объясняется ее производительность. Ассортимент можно предложить хоть какой. Главное, чтобы спрос был, потому что есть ходовые позиции, которые люди всегда едят, остальное – так, для выбора.
- Вы решили делать то, что массово пользуется спросом, и не идти в нишевые продукты?
- Ассортимент будет соответствовать всему, что в топе. В ближайшую перспективу мы не планируем производить только лёд замороженный. С нашим бизнесом это никак не связано. У нас задача – выпускать продукцию именно из молока.
- Секрета нет, это порядка двух тысяч двухсот голов дойного стада, вместе со шлейфом около трех тысяч двухсот.
- На таком большом объёме (к тому же, если все процессы автоматизированы) можно сделать молочное животноводство выгодным? Вы говорите, что выходили в ноль, когда были производителями сырья.
- С тех пор, как занялись переработкой, все изменилось. Мы не берем из одного кармана и в другой не перекладываем. Наше сырьевое направление эффективно. К тому же мы не взяли готовый завод, конфетку. Требовались инвестиции, они постоянно требуются. Чтобы вливать средства в сельхозпредприятие и увеличивать поголовье скота, этот объём молока нужно перерабатывать. Мороженое мы запускаем в том числе с такой целью.
Оборудование для производства любимого всеми десерта влетело предприятию в копеечку. Из 300 млн, вложенных Сергеем Мельниковым в модернизацию, сто ушло только на итальянскую линию. «Итальянцы – законодатели мод и хранители традиций в этой сфере, – Сергей Сергеевич с гордостью демонстрирует новенький конвейер, захватывающий, наполняющий, переворачивающий вафельные стаканчики с застывшей уже воздушной и нежной массой превосходного карамельного цвета и тонким молочным ароматом. – У этой установки отличное соотношение цены и производительности, и это не может нас не мотивировать»…
Сегодня на линии – «крем-брюле» в вафельных стаканчиках. Из состава на заводе большого секрета не делают. Зачем? Это главный козырь для потребителя. «Только натуральные компоненты: сливки, обезжиренное молоко и сахар, – перечисляет главный технолог Анна Мезенцева. – И стабилизационная смесь для мороженого, чтобы добиться нужной консистенции».
- Химия, наверное?))
- Вовсе нет, мы покупаем смесь премиум-класса – это камедь рожкового дерева, пектин и желатин. Именно они позволяют создать нежное тягучее мороженое, способное держать форму.
Под новый продукт специально построили и новый цех, рядом с которым уже возводят склад с морозильной камерой на 1500 кв. метров – на перспективу.
- А какова производительность?
- Около четырех тысяч штук в час. В случае, если проект окажется удачным, мы рассматриваем возможность приобретения более производственной линии.
- Почему вы не купили её сразу?
- Во-первых, она стоит в три раза дороже. Во-вторых, наша линия универсальная. Она делает и эскимо, и стаканчик, и рожок. А та будет узконаправленной – только стаканчик и большой рожок, чем и объясняется ее производительность. Ассортимент можно предложить хоть какой. Главное, чтобы спрос был, потому что есть ходовые позиции, которые люди всегда едят, остальное – так, для выбора.
- Вы решили делать то, что массово пользуется спросом, и не идти в нишевые продукты?
- Ассортимент будет соответствовать всему, что в топе. В ближайшую перспективу мы не планируем производить только лёд замороженный. С нашим бизнесом это никак не связано. У нас задача – выпускать продукцию именно из молока.
- Как вы пережили коронавирус?
- Видите, пережили. Предприятие в целом работало нормально, без проблем. До Южноуральска глобальный коронавирус не дошел. Ну а нам государство поставило задачу обеспечить население продуктами питания. Мы как работали, так и работаем.
Сезонное снижение, конечно, есть, социалка отключилась. Но это и раньше было. С другой стороны, мы же компания молодая. Еще не до конца использовали все каналы сбыта и постоянно добавляем новые сети. Этот фактор не дал нам провалиться в сложный период. Сейчас народ деньги считает. Те, кто раньше покупал подороже, сегодня выбирают средний ценовой сегмент. Всё-таки мы на полке немного дешевле, активно участвуем в акциях. Поэтому дисбаланса мы не ощутили.
- Почему вы сделали ставку на натуральность? По идеологическим соображениям хотите производить классный продукт или это бизнес-стратегия?
- Нам натуральное производить дешевле, чем ненатуральное, потому что мы имеем собственное стадо. Мы работаем по ГОСТу, он требует только пастеризации молока – ни стерилизации, ни ультрапастеризации. Если этих правил придерживаться, продукция хранится не более семи суток, как в нашем случае. К нам приходят с предложением увеличить срок годности – консерванты какие-то добавить. Для нас это нецелесообразно. Наш бренд позиционирует себя как натуральный с коротким сроком хранения. Правда, культура потребления натурального молока сегодня активно из людей выбивается. Они начинают думать, что это нормально, когда открыл молоко, а оно стоит и не портится неделями. Некоторые возмущаются: «Я купил, а оно через семь дней прокисло. Почему?» Да потому, что это натуральный продукт!
По телевизору объясняют: молоко пить вредно, пальмовое масло полезно. Такие идеи продвигают определённые товарищи, которые зарабатывают на этом серьезные деньги.
- То, что сейчас продавцов обязали разделить на полках молочные продукты с содержанием растительного жира и без него, решает проблему фальсификата?
- Полностью не решает. Это первый шаг, чтобы сделать рынок более чистым и уравнять в правах производителей натуральной продукции и ненатуральной. Что я имею в виду: зачастую федеральные сети умышленно размещают одну и другую продукцию рядом, им же заработать надо. На входе в сеть пачка ненатурального масла стоит, условно, двадцать рублей, а наша – девяносто. На первую продавец ставит цену 60, на мою – 110. Не все покупатели читают то, что написано на этикетке, и берут дешевый продукт. В итоге на ненатуральной пачке продавец заработает сорок рублей, а на моей – вдвое меньше. Плюс, если покупатель выберет мое масло, в средний чек уйдет большая сумма, и человек недокупит другую продукцию.
На фальсифицированных продуктах сети получали сверхприбыли, им было хорошо. У производителя продукции с пальмовым маслом тоже все в порядке – спреды уходят эшелонами, а мы не можем продать. Все хлопают в ладоши, и только мы, производители натурального продукта, остаемся в дураках.
- Вы ввели систему «Меркурий», она помогает в борьбе с фальсификатом?
- Безусловно да. Эта система сильно испортила жизнь фальсификаторам, свою функцию она выполняет. Просто сам Минсельхоз не до конца выработал механизмы контроля. Сейчас он щадяще на всё смотрит и периодически наказывает за производство фальсификата. Программа однозначно полезная.
- То, что шесть лет назад ввели эмбарго, вам дало какую-то фору?
- Мы его почувствовали с какой точки зрения: стали возникать проблемы. Внутренние цены на молочную продукцию остались прежними, евро сильно вырос, а все технологии производства молока и выращивания КРС завязаны на иностранной технике, запчастях, лекарствах…
- С другой стороны, сыр, сухое молоко, масло из-за границы перестали идти. Наверное, здесь их стало больше производиться?
- Нас это никак не коснулось. Мы не производители сыров.
- Не хотите пойти в эту тему?
- Мысль есть, но производство сыра требует очень больших вложений. Чтобы производство было более-менее рентабельно, нужно кратно увеличить объемы производства молока – построить еще один комплекс, как наш.
- В производстве молока вы достигли уровня оснащения и автоматизации, которая есть на европейских хозяйствах?
- Скажу, что в Европе практически нигде такого уровня нет. Я много где бывал по линии Минпромторга. Специфика какая: у нас объём посевных площадей 36 тысяч гектаров. Там хозяйств с такими площадями нет, это особенность России. Есть фермы с большим поголовьем, но корма закупают отдельно. А именно вкупе, чтобы и поголовье, и посевные площади, и свое производство – нет.
Мы с Сергеем Петровичем были в Дании. Там два завода по тысяче тонн переработки каждый, они держат значительную долю европейского рынка молока (концерн Arla). Мы ездили на завод, на молочные фермы. Они, как правило, очень компактные.
Когда мы начинаем говорить, что у нас дойного стада порядка 2,2 тысячи, а вместе со шлейфом около 3,2 тысячи, у людей глаза округляются. Они не верят, думают, мы так шутим. Технику, на которой мы сегодня сеем, все эти современные «Джондиры», «Катерпиллеры», их фермер только в журнале видел. А у нас таких десять машин, наши площади меньшей техникой не перепашешь – тяжело и дорого. Когда мы ставили доильный зал Delaval, мирового лидера, это была самая последняя линия компании, самая современная на тот момент.
- У вас большое дойное стадо. Сколько человек его обслуживают?
- Одна доярка – от 400 до 500 коров за разовую дойку, в смене их шестеро. Производительность оборудования позволяет доить такие объёмы столь малым количеством человек утром и вечером.
Коллектив на заводе молодой – это замечаешь сразу, как только заходишь на производство. «Зарплата по Южно-Уральску выше среднего, – объясняет главный технолог, – не в разы, но тем не менее. Текучка, конечно, есть, но только по определенным позициям. В нашем деле привычка нужна. Кабинетному работнику на производстве будет тяжело. Как и производственнику в кабинете. Здесь надо шевелиться, здесь всегда что-то происходит – это живой процесс. Невозможно бросить его или остановить даже на пять минут. Пока все молоко не разольётся до последней капли, никто отсюда не уходит». В поле и на фермах ситуация аналогичная – цикл идет своим ходом, периодически добавляя новые технические составляющие в традиционное сельское хозяйство.
- Видите, пережили. Предприятие в целом работало нормально, без проблем. До Южноуральска глобальный коронавирус не дошел. Ну а нам государство поставило задачу обеспечить население продуктами питания. Мы как работали, так и работаем.
Сезонное снижение, конечно, есть, социалка отключилась. Но это и раньше было. С другой стороны, мы же компания молодая. Еще не до конца использовали все каналы сбыта и постоянно добавляем новые сети. Этот фактор не дал нам провалиться в сложный период. Сейчас народ деньги считает. Те, кто раньше покупал подороже, сегодня выбирают средний ценовой сегмент. Всё-таки мы на полке немного дешевле, активно участвуем в акциях. Поэтому дисбаланса мы не ощутили.
- Почему вы сделали ставку на натуральность? По идеологическим соображениям хотите производить классный продукт или это бизнес-стратегия?
- Нам натуральное производить дешевле, чем ненатуральное, потому что мы имеем собственное стадо. Мы работаем по ГОСТу, он требует только пастеризации молока – ни стерилизации, ни ультрапастеризации. Если этих правил придерживаться, продукция хранится не более семи суток, как в нашем случае. К нам приходят с предложением увеличить срок годности – консерванты какие-то добавить. Для нас это нецелесообразно. Наш бренд позиционирует себя как натуральный с коротким сроком хранения. Правда, культура потребления натурального молока сегодня активно из людей выбивается. Они начинают думать, что это нормально, когда открыл молоко, а оно стоит и не портится неделями. Некоторые возмущаются: «Я купил, а оно через семь дней прокисло. Почему?» Да потому, что это натуральный продукт!
По телевизору объясняют: молоко пить вредно, пальмовое масло полезно. Такие идеи продвигают определённые товарищи, которые зарабатывают на этом серьезные деньги.
- То, что сейчас продавцов обязали разделить на полках молочные продукты с содержанием растительного жира и без него, решает проблему фальсификата?
- Полностью не решает. Это первый шаг, чтобы сделать рынок более чистым и уравнять в правах производителей натуральной продукции и ненатуральной. Что я имею в виду: зачастую федеральные сети умышленно размещают одну и другую продукцию рядом, им же заработать надо. На входе в сеть пачка ненатурального масла стоит, условно, двадцать рублей, а наша – девяносто. На первую продавец ставит цену 60, на мою – 110. Не все покупатели читают то, что написано на этикетке, и берут дешевый продукт. В итоге на ненатуральной пачке продавец заработает сорок рублей, а на моей – вдвое меньше. Плюс, если покупатель выберет мое масло, в средний чек уйдет большая сумма, и человек недокупит другую продукцию.
На фальсифицированных продуктах сети получали сверхприбыли, им было хорошо. У производителя продукции с пальмовым маслом тоже все в порядке – спреды уходят эшелонами, а мы не можем продать. Все хлопают в ладоши, и только мы, производители натурального продукта, остаемся в дураках.
- Вы ввели систему «Меркурий», она помогает в борьбе с фальсификатом?
- Безусловно да. Эта система сильно испортила жизнь фальсификаторам, свою функцию она выполняет. Просто сам Минсельхоз не до конца выработал механизмы контроля. Сейчас он щадяще на всё смотрит и периодически наказывает за производство фальсификата. Программа однозначно полезная.
- То, что шесть лет назад ввели эмбарго, вам дало какую-то фору?
- Мы его почувствовали с какой точки зрения: стали возникать проблемы. Внутренние цены на молочную продукцию остались прежними, евро сильно вырос, а все технологии производства молока и выращивания КРС завязаны на иностранной технике, запчастях, лекарствах…
- С другой стороны, сыр, сухое молоко, масло из-за границы перестали идти. Наверное, здесь их стало больше производиться?
- Нас это никак не коснулось. Мы не производители сыров.
- Не хотите пойти в эту тему?
- Мысль есть, но производство сыра требует очень больших вложений. Чтобы производство было более-менее рентабельно, нужно кратно увеличить объемы производства молока – построить еще один комплекс, как наш.
- В производстве молока вы достигли уровня оснащения и автоматизации, которая есть на европейских хозяйствах?
- Скажу, что в Европе практически нигде такого уровня нет. Я много где бывал по линии Минпромторга. Специфика какая: у нас объём посевных площадей 36 тысяч гектаров. Там хозяйств с такими площадями нет, это особенность России. Есть фермы с большим поголовьем, но корма закупают отдельно. А именно вкупе, чтобы и поголовье, и посевные площади, и свое производство – нет.
Мы с Сергеем Петровичем были в Дании. Там два завода по тысяче тонн переработки каждый, они держат значительную долю европейского рынка молока (концерн Arla). Мы ездили на завод, на молочные фермы. Они, как правило, очень компактные.
Когда мы начинаем говорить, что у нас дойного стада порядка 2,2 тысячи, а вместе со шлейфом около 3,2 тысячи, у людей глаза округляются. Они не верят, думают, мы так шутим. Технику, на которой мы сегодня сеем, все эти современные «Джондиры», «Катерпиллеры», их фермер только в журнале видел. А у нас таких десять машин, наши площади меньшей техникой не перепашешь – тяжело и дорого. Когда мы ставили доильный зал Delaval, мирового лидера, это была самая последняя линия компании, самая современная на тот момент.
- У вас большое дойное стадо. Сколько человек его обслуживают?
- Одна доярка – от 400 до 500 коров за разовую дойку, в смене их шестеро. Производительность оборудования позволяет доить такие объёмы столь малым количеством человек утром и вечером.
Коллектив на заводе молодой – это замечаешь сразу, как только заходишь на производство. «Зарплата по Южно-Уральску выше среднего, – объясняет главный технолог, – не в разы, но тем не менее. Текучка, конечно, есть, но только по определенным позициям. В нашем деле привычка нужна. Кабинетному работнику на производстве будет тяжело. Как и производственнику в кабинете. Здесь надо шевелиться, здесь всегда что-то происходит – это живой процесс. Невозможно бросить его или остановить даже на пять минут. Пока все молоко не разольётся до последней капли, никто отсюда не уходит». В поле и на фермах ситуация аналогичная – цикл идет своим ходом, периодически добавляя новые технические составляющие в традиционное сельское хозяйство.
