курган. собеседник
Алексей Иванов:
«Провинцию может спасти только она сама»
«Провинцию может спасти только она сама»
Осенью Курган посетил Алексей Иванов, автор книг «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Тобол», и дал интервью о творчестве, писательстве и провинции. В него вошли вопросы с пресс-конференции, встречи с курганскими читателями и те, что журнал Cher Ami задал писателю один на один.
Осенью Курган посетил Алексей Иванов, автор книг «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта». Его имя ассоциируется с Уралом: значительная часть жизни Иванова прошла в Перми, а события произведений разворачиваются то в Тобольске, то в городе, похожем на Екатеринбург, то в окрестностях пермской Чердыни.
В июне журналист и литературный критик Дмитрий Ольшанский написал в фейсбучном посте: «Россия – это огромная страна, напрочь лишенная пространства. Русская литература, кино, вообще русская история может проходить в Москве или Петербурге, а может в деревне, в провинции, но эта деревня или эта провинция тогда будут каким-то замкнутым тупиком, глубоким и безвыходным местом, куда человек уходит принудительно или добровольно». В книгах Иванов наводит фокус на Урал, и нет, здесь не тупик. Темнота озаряется светом, трехмерными картинами встают эпичные сражения за Пермь, подковерные битвы за Сибирь, наша история, мифология, герои и боги. Иванов прочерчивает карту Урала и Сибири, восполняет географические пробелы и присоединяет нас, уральцев, к культурной карте страны. Теперь мы
есть. О нас прочитали тысячными тиражами. По «Сердцу Пармы» с лета снимают фильм. Этот крошечный шаг в сторону отказа от москвоцентричности, хотя бы идейный. О творчестве, писательстве и провинции это интервью. В него вошли вопросы с пресс-конференции, встречи с курганскими читателями и те, что журнал Cher Ami задал писателю один на один.
В июне журналист и литературный критик Дмитрий Ольшанский написал в фейсбучном посте: «Россия – это огромная страна, напрочь лишенная пространства. Русская литература, кино, вообще русская история может проходить в Москве или Петербурге, а может в деревне, в провинции, но эта деревня или эта провинция тогда будут каким-то замкнутым тупиком, глубоким и безвыходным местом, куда человек уходит принудительно или добровольно». В книгах Иванов наводит фокус на Урал, и нет, здесь не тупик. Темнота озаряется светом, трехмерными картинами встают эпичные сражения за Пермь, подковерные битвы за Сибирь, наша история, мифология, герои и боги. Иванов прочерчивает карту Урала и Сибири, восполняет географические пробелы и присоединяет нас, уральцев, к культурной карте страны. Теперь мы
есть. О нас прочитали тысячными тиражами. По «Сердцу Пармы» с лета снимают фильм. Этот крошечный шаг в сторону отказа от москвоцентричности, хотя бы идейный. О творчестве, писательстве и провинции это интервью. В него вошли вопросы с пресс-конференции, встречи с курганскими читателями и те, что журнал Cher Ami задал писателю один на один.
Вопрос из зала:
- Алексей, первые книги вы писали в стол. Как вам удавалось мириться с этим?
- Мой писательский путь действительно не был легким. Первую мою повесть в 1989 году напечатал журнал
«Уральский следопыт», а потом началась долгая полоса невезения. Были написаны три романа: «Общага-на-крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», – но меня никто не публиковал. Я продолжал писать, не имея никакой надежды, жил по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». Я считал себя писателем по призванию, по складу личности, и бросить это занятие было все равно что изменить самому себе. Говорят, шанс дается всем людям, но не всегда человек бывает к этому шансу готов. Я был готов и, как только на меня обратили внимание в 2003 году, издал три романа и сразу стал профессиональным писателем. Я не склонен считать, что обладал какой-то особенной силой воли или духа, просто я оставался таким, каким мне было органично быть.
- Алексей Иванов сейчас кем себя ощущает: пермским писателем, уральским или российским? И можно ли, чувствуя себя уральским писателем, войти в золотой топ классики русской литературы?
- Я с самого начала ощущал себя российским писателем. Ни пермским, ни уральским – просто российским, но живущим на Урале. Я думаю, география не может быть преградой для того, чтобы войти в какие-либо топы. Другое дело, из-за географии придется приложить больше усилий, нежели если бы ты был столичным человеком. Возможность есть у каждого.
- Интернет дал шанс писателю, рожденному в регионе, успешнее и быстрее найти свою публику?
- Мне сложно судить, потому что я-то возник как писатель в доинтернетовскую эпоху. Думаю, безусловно, интернет дал новые возможности, но не надо обольщаться. Вместе с ними пришли и новые риски. Например, многие авторы, которые могли бы стать писателями, «благодаря» интернету остановились в развитии или законсервировались. Они удовлетворились реакцией, которую получают в своем кругу общения, и уже не идут
дальше.
- Нужна ли регионам региональная литература, которая по понятным причинам не поднимется на более высокий уровень, не уйдет на всю Россию?
- Я думаю, нужна, потому что это школа, это культурная среда. Значимая литературная фигура не рождается на
пустом месте, она всегда возникает внутри нее. Чем разнообразнее среда, тем больше вероятности, что в ней появится крупная фигура.
- Алексей, первые книги вы писали в стол. Как вам удавалось мириться с этим?
- Мой писательский путь действительно не был легким. Первую мою повесть в 1989 году напечатал журнал
«Уральский следопыт», а потом началась долгая полоса невезения. Были написаны три романа: «Общага-на-крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», – но меня никто не публиковал. Я продолжал писать, не имея никакой надежды, жил по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». Я считал себя писателем по призванию, по складу личности, и бросить это занятие было все равно что изменить самому себе. Говорят, шанс дается всем людям, но не всегда человек бывает к этому шансу готов. Я был готов и, как только на меня обратили внимание в 2003 году, издал три романа и сразу стал профессиональным писателем. Я не склонен считать, что обладал какой-то особенной силой воли или духа, просто я оставался таким, каким мне было органично быть.
- Алексей Иванов сейчас кем себя ощущает: пермским писателем, уральским или российским? И можно ли, чувствуя себя уральским писателем, войти в золотой топ классики русской литературы?
- Я с самого начала ощущал себя российским писателем. Ни пермским, ни уральским – просто российским, но живущим на Урале. Я думаю, география не может быть преградой для того, чтобы войти в какие-либо топы. Другое дело, из-за географии придется приложить больше усилий, нежели если бы ты был столичным человеком. Возможность есть у каждого.
- Интернет дал шанс писателю, рожденному в регионе, успешнее и быстрее найти свою публику?
- Мне сложно судить, потому что я-то возник как писатель в доинтернетовскую эпоху. Думаю, безусловно, интернет дал новые возможности, но не надо обольщаться. Вместе с ними пришли и новые риски. Например, многие авторы, которые могли бы стать писателями, «благодаря» интернету остановились в развитии или законсервировались. Они удовлетворились реакцией, которую получают в своем кругу общения, и уже не идут
дальше.
- Нужна ли регионам региональная литература, которая по понятным причинам не поднимется на более высокий уровень, не уйдет на всю Россию?
- Я думаю, нужна, потому что это школа, это культурная среда. Значимая литературная фигура не рождается на
пустом месте, она всегда возникает внутри нее. Чем разнообразнее среда, тем больше вероятности, что в ней появится крупная фигура.
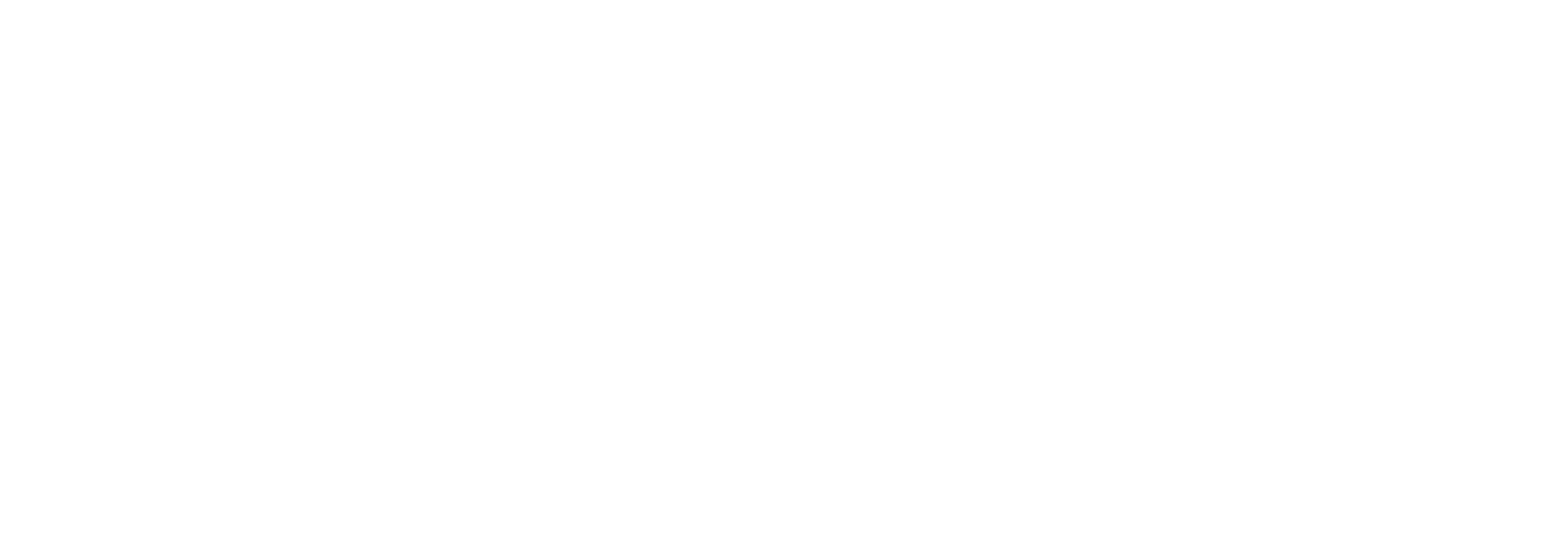
Вопрос из зала:
- В свое время роман «Псоглавцы» вышел под псевдонимом. Зачем вам это было нужно?
- Это очень печальная история. Маврин (псевдоним Алексея Иванова, под которым был опубликован роман «Псоглавцы» – прим. ред.) – потому что я назвался в честь Саввы Маврина, исследователя, который вел первые допросы Пугачева. Он еще до Пушкина понял, что Пугачев в «пугачевщине» не особо виноват. То, как Савва Маврин смог подняться над собой, сделать правильные выводы, меня очень расположило к этому человеку, и я решил взять его фамилию в качестве псевдонима. Почему я вообще использовал псевдоним? Дело в том, что у нас в культуре существуют некие клише. Поскольку я сам не из Москвы и пишу про Урал, ко мне приклеили клише «певец Урала». Якобы, моя задача – воспевать его, а если я начинаю писать о чем-то другом, значит, я «исписался», «деградировал», «взял деньги, чтобы написать что-то в угоду публике». У незнакомого автора нет предыстории, поэтому, считал я, к нему будут относиться так, как он того достоин.
Издав книгу под псевдонимом, я поменял шило на мыло: хрен оказался не слаще редьки. Сразу появились другие клише. «Ага! – сказали критики. – Если писатель молодой, значит, писать он умеет не очень хорошо. Тут у него не получилось, там он пережарил, тут недосолил. Вот мы его поучим романы писать!» Одно клише, «певец Урала», я сменил на другое – «молодой автор». Ни то, ни другое мне не понравилось, все равно какие-то ярлыки на тебя навешивают. Я решил, что ситуация с псевдонимом не сработала, и пересдал роман под своей фамилией.
- В свое время роман «Псоглавцы» вышел под псевдонимом. Зачем вам это было нужно?
- Это очень печальная история. Маврин (псевдоним Алексея Иванова, под которым был опубликован роман «Псоглавцы» – прим. ред.) – потому что я назвался в честь Саввы Маврина, исследователя, который вел первые допросы Пугачева. Он еще до Пушкина понял, что Пугачев в «пугачевщине» не особо виноват. То, как Савва Маврин смог подняться над собой, сделать правильные выводы, меня очень расположило к этому человеку, и я решил взять его фамилию в качестве псевдонима. Почему я вообще использовал псевдоним? Дело в том, что у нас в культуре существуют некие клише. Поскольку я сам не из Москвы и пишу про Урал, ко мне приклеили клише «певец Урала». Якобы, моя задача – воспевать его, а если я начинаю писать о чем-то другом, значит, я «исписался», «деградировал», «взял деньги, чтобы написать что-то в угоду публике». У незнакомого автора нет предыстории, поэтому, считал я, к нему будут относиться так, как он того достоин.
Издав книгу под псевдонимом, я поменял шило на мыло: хрен оказался не слаще редьки. Сразу появились другие клише. «Ага! – сказали критики. – Если писатель молодой, значит, писать он умеет не очень хорошо. Тут у него не получилось, там он пережарил, тут недосолил. Вот мы его поучим романы писать!» Одно клише, «певец Урала», я сменил на другое – «молодой автор». Ни то, ни другое мне не понравилось, все равно какие-то ярлыки на тебя навешивают. Я решил, что ситуация с псевдонимом не сработала, и пересдал роман под своей фамилией.
В СЛУЧАЕ С ФИЛЬМОМ «ТОБОЛ» Я КАК РАЗ АВТОР СЦЕНАРИЯ. РОМАН НАПИСАН УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ФИЛЬМ БЫЛ СНЯТ. И КАК АВТОР СЦЕНАРИЯ И СОАВТОР ФИЛЬМА Я, РАЗУМЕЕТСЯ, ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ФИЛЬМ БЫЛ ЛУЧШЕ, СПОРИЛ, ДОКАЗЫВАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, НО ДОКАЗАТЬ НИЧЕГО НЕ СМОГ. В ФИЛЬМЕ ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК – РЕЖИССЕР, И КОГДА Я УВИДЕЛ ТО, ЧТО ОН
СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, СКАЗАЛ, ЧТО ЭТА ИСТОРИЯ УЖЕ НЕ МОЯ, Я ТАКУЮ ЧУШЬ НЕ ПРИДУМЫВАЛ, ПОЭТОМУ СНИМАЮ СВОЕ ИМЯ С ТИТРОВ.
СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, СКАЗАЛ, ЧТО ЭТА ИСТОРИЯ УЖЕ НЕ МОЯ, Я ТАКУЮ ЧУШЬ НЕ ПРИДУМЫВАЛ, ПОЭТОМУ СНИМАЮ СВОЕ ИМЯ С ТИТРОВ.
Вопрос из зала:
- Как по ту сторону МКАДа относятся к тому, что появился человек, который рассказывает про Урал? Был ли диссонанс, пыталась ли система вас поглотить, сделать гламурным?
- Слушайте, никогда меня об этом не спрашивали, но это действительно интересная ситуация. Она не только со мною, она со всеми случается, кто приходит в московскую литературную тусовку из провинции. Тусовка сразу начинает пережевывать, переламывать и подгибать под себя. Чаще всего писателя загоняют в формат чудика, который где-то в глухой тайге в деревне живет, ходит в лаптях или валенках, скрипит половицами, собирает грибы, знатный охотник... И такой чудик приезжает в столицу и начинает всех смешить. Ну, вот дал Бог ему талант, он пишет замечательные произведения, но сам по себе он, разумеется, фрик. Некоторые писатели ведутся на это и сами начинают подыгрывать запросам и публики, и тусовки, изображать из себя
фриков и тотчас заканчиваются как писатели. Некоторые начинают противоборствовать, как в свое время противоборствовал я, но они получают статус скандального автора, человека, с которым невозможно разговаривать, который на все обижается и вообще персона весьма конфликтная. Вот два пути для провинциального писателя.
Вопрос из зала:
- В системе, которая пыталась вас выровнять, как вы себя ощущаете сегодня? Вы все равно нашли общий язык: издаетесь, снимаете, не уехали обратно в провинцию.
- Не хочу говорить о том, где живу, но я точно не живу в Москве. В тусовку я не интегрировался, всегда ей противостоял и, в конце концов, добился, чего хотел, – абсолютной самостоятельности. Я отстоял свое право быть самим собою, каким хочу.
Разумеется, все это сопрягается с экономической самостоятельностью. Я востребованный писатель, у меня все покупают, я прекрасно зарабатываю и не нуждаюсь ни в протекции московских журналистов, критиков, редакторов, ни в заказных работах, которые будут дискредитировать меня как писателя. То есть самостоятельная позиция всегда имеет две стороны. С одной – экономика, ты должен быть действительно успешным, востребованным у публики. С другой – идеологическое противостояние формату, который тебе навязывают.
Вопрос из зала:
- Продолжая тему экранизации, скажите пару слов о взаимоотношении книги и экранной версии произведения: «Географ глобус пропил», «Тобол»…
- Тут надо понимать разницу. Писатель может участвовать в кинематографе в двух ипостасях. Первая – когда он пишет произведение и продает права на экранизацию. Появляются сценаристы, режиссёр, оператор. Они делают весь фильм, а писатель спокойно стоит на лестнице, курит бамбук, не вмешивается, но и не несет ответственности за результат. Я считаю, лучшее, что может сделать писатель по отношению к фильму, – это оставить режиссера в покое. Но есть и другая ситуация – когда писатель пишет сценарий. Он является соавтором фильма, несет ответственность за результат и должен отстаивать свое видение, аргументированно, разумеется. В случае с фильмом «Тобол» я как раз автор сценария. Роман написан уже после того, как фильм был снят. И как автор сценария и соавтор фильма я, разумеется, хотел, чтобы фильм был лучше, спорил, доказывал свою точку зрения, но доказать ничего не смог. В фильме всегда главный человек – режиссер, и когда я увидел то, что он собирается делать, сказал, что эта история уже не моя, я такую чушь не придумывал, поэтому снимаю свое имя с титров. Быть автором сценария, скажем так, более драматичная ситуация для писателя. Я в ней находиться не люблю, хотя, бывает, принимаю приглашения, если мне обещают большие права, нежели это принято в отрасли.
Вопрос из зала:
- Интересно, в фильме «Географ глобус пропил» Константин Хабенский воплотил все то, что вы в героя вложили?
- Хабенский сыграл не того персонажа, которого написал я, но это правильно. В 1995 году я описал героя нашего времени. Учитель Виктор Служкин был героем эпохи 90-х. Фильм снимали уже в 2012-м, и Хабенский сыграл героя эпохи 2010-х. В этом смысле он поступил абсолютно верно.
Вопрос из зала:
- Все ваши романы настолько разные в стилистическом плане, что иногда создается впечатление, что книги написаны разными людьми. Мне кажется, это ваша самая яркая особенность как автора. Как вам удается писать произведения совершенно разным языком?
- Я неоднократно слышал, что Ивановых несколько. Один пишет исторические романы, второй современные, третий хорроры, четвертый нон-фикшн… Разумеется, все пишу я сам. Мне не представляет труда переключаться на другие жанры, темы, форматы. В современном мире это несложно, потому что мы живем в эпоху постмодерна. Вот представьте, что человек на работе простой клерк, офисный планктон, незаметная серая мышь, а приходит домой, залезает в интернет, и там он – эльф: убивает гоблинов, царит над миром. Или лезет в соцсети и обсуждает политические темы, и он уже трибун, свергает тиранов, согласен головы людям отрывать. Он легко переключается на разные форматы своего существования. Так же и я легко переключаюсь на разные форматы своих произведений. Разумеется, произведения разные по теме, по фактуре. Для каждого я составляю отдельный словарь и изучаю разные отрасли знаний, но, тем не менее, все равно можно понять, что автор у них один. Например, все мои произведения сюжетны и строятся по классической драматургии. Когда я описываю главного героя, строю его личность по одним и тем же точкам – отношение героя к самым важным в жизни вещам: к богу, к родине, к женщинам, детям, правде. Вот по этим чертам можно определить, что произведение писал я, даже если они про Афганистан времен афганской войны, или Сибирь эпохи Петра Первого, или полузаброшенную деревню, в которой появляется оборотень.
- Как по ту сторону МКАДа относятся к тому, что появился человек, который рассказывает про Урал? Был ли диссонанс, пыталась ли система вас поглотить, сделать гламурным?
- Слушайте, никогда меня об этом не спрашивали, но это действительно интересная ситуация. Она не только со мною, она со всеми случается, кто приходит в московскую литературную тусовку из провинции. Тусовка сразу начинает пережевывать, переламывать и подгибать под себя. Чаще всего писателя загоняют в формат чудика, который где-то в глухой тайге в деревне живет, ходит в лаптях или валенках, скрипит половицами, собирает грибы, знатный охотник... И такой чудик приезжает в столицу и начинает всех смешить. Ну, вот дал Бог ему талант, он пишет замечательные произведения, но сам по себе он, разумеется, фрик. Некоторые писатели ведутся на это и сами начинают подыгрывать запросам и публики, и тусовки, изображать из себя
фриков и тотчас заканчиваются как писатели. Некоторые начинают противоборствовать, как в свое время противоборствовал я, но они получают статус скандального автора, человека, с которым невозможно разговаривать, который на все обижается и вообще персона весьма конфликтная. Вот два пути для провинциального писателя.
Вопрос из зала:
- В системе, которая пыталась вас выровнять, как вы себя ощущаете сегодня? Вы все равно нашли общий язык: издаетесь, снимаете, не уехали обратно в провинцию.
- Не хочу говорить о том, где живу, но я точно не живу в Москве. В тусовку я не интегрировался, всегда ей противостоял и, в конце концов, добился, чего хотел, – абсолютной самостоятельности. Я отстоял свое право быть самим собою, каким хочу.
Разумеется, все это сопрягается с экономической самостоятельностью. Я востребованный писатель, у меня все покупают, я прекрасно зарабатываю и не нуждаюсь ни в протекции московских журналистов, критиков, редакторов, ни в заказных работах, которые будут дискредитировать меня как писателя. То есть самостоятельная позиция всегда имеет две стороны. С одной – экономика, ты должен быть действительно успешным, востребованным у публики. С другой – идеологическое противостояние формату, который тебе навязывают.
Вопрос из зала:
- Продолжая тему экранизации, скажите пару слов о взаимоотношении книги и экранной версии произведения: «Географ глобус пропил», «Тобол»…
- Тут надо понимать разницу. Писатель может участвовать в кинематографе в двух ипостасях. Первая – когда он пишет произведение и продает права на экранизацию. Появляются сценаристы, режиссёр, оператор. Они делают весь фильм, а писатель спокойно стоит на лестнице, курит бамбук, не вмешивается, но и не несет ответственности за результат. Я считаю, лучшее, что может сделать писатель по отношению к фильму, – это оставить режиссера в покое. Но есть и другая ситуация – когда писатель пишет сценарий. Он является соавтором фильма, несет ответственность за результат и должен отстаивать свое видение, аргументированно, разумеется. В случае с фильмом «Тобол» я как раз автор сценария. Роман написан уже после того, как фильм был снят. И как автор сценария и соавтор фильма я, разумеется, хотел, чтобы фильм был лучше, спорил, доказывал свою точку зрения, но доказать ничего не смог. В фильме всегда главный человек – режиссер, и когда я увидел то, что он собирается делать, сказал, что эта история уже не моя, я такую чушь не придумывал, поэтому снимаю свое имя с титров. Быть автором сценария, скажем так, более драматичная ситуация для писателя. Я в ней находиться не люблю, хотя, бывает, принимаю приглашения, если мне обещают большие права, нежели это принято в отрасли.
Вопрос из зала:
- Интересно, в фильме «Географ глобус пропил» Константин Хабенский воплотил все то, что вы в героя вложили?
- Хабенский сыграл не того персонажа, которого написал я, но это правильно. В 1995 году я описал героя нашего времени. Учитель Виктор Служкин был героем эпохи 90-х. Фильм снимали уже в 2012-м, и Хабенский сыграл героя эпохи 2010-х. В этом смысле он поступил абсолютно верно.
Вопрос из зала:
- Все ваши романы настолько разные в стилистическом плане, что иногда создается впечатление, что книги написаны разными людьми. Мне кажется, это ваша самая яркая особенность как автора. Как вам удается писать произведения совершенно разным языком?
- Я неоднократно слышал, что Ивановых несколько. Один пишет исторические романы, второй современные, третий хорроры, четвертый нон-фикшн… Разумеется, все пишу я сам. Мне не представляет труда переключаться на другие жанры, темы, форматы. В современном мире это несложно, потому что мы живем в эпоху постмодерна. Вот представьте, что человек на работе простой клерк, офисный планктон, незаметная серая мышь, а приходит домой, залезает в интернет, и там он – эльф: убивает гоблинов, царит над миром. Или лезет в соцсети и обсуждает политические темы, и он уже трибун, свергает тиранов, согласен головы людям отрывать. Он легко переключается на разные форматы своего существования. Так же и я легко переключаюсь на разные форматы своих произведений. Разумеется, произведения разные по теме, по фактуре. Для каждого я составляю отдельный словарь и изучаю разные отрасли знаний, но, тем не менее, все равно можно понять, что автор у них один. Например, все мои произведения сюжетны и строятся по классической драматургии. Когда я описываю главного героя, строю его личность по одним и тем же точкам – отношение героя к самым важным в жизни вещам: к богу, к родине, к женщинам, детям, правде. Вот по этим чертам можно определить, что произведение писал я, даже если они про Афганистан времен афганской войны, или Сибирь эпохи Петра Первого, или полузаброшенную деревню, в которой появляется оборотень.
КОГДА ХОЧЕТСЯ ОЩУЩЕНИЯ ПРОСТОРА, ЭПОСА, ГЕРОИКИ,
ХОРОШО ПОЕХАТЬ В БАШКИРИЮ, В РАЙОН ШИХАНА ТРАТАУ. КОГДА
ХОЧЕТСЯ ОЩУЩЕНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ СКАЗКИ, ТАЙНЫ, МРАЧНОСТИ,
ТОГДА МОЖНО НА
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ В ОКРЕСТНОСТИ ГОРЫ ПОЛЮД. КОГДА ХОЧЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
МОЩИ, СУРОВОСТИ,
МОЖНО ПРИЕХАТЬ
НА ЧУСОВУЮ.
Самостоятельная позиция
всегда имеет две стороны. С одной – экономика, ты должен быть действительно успешным, востребованным у публики. С другой – идеологическое
противостояние формату, который тебе навязывают.
ХОРОШО ПОЕХАТЬ В БАШКИРИЮ, В РАЙОН ШИХАНА ТРАТАУ. КОГДА
ХОЧЕТСЯ ОЩУЩЕНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ СКАЗКИ, ТАЙНЫ, МРАЧНОСТИ,
ТОГДА МОЖНО НА
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ В ОКРЕСТНОСТИ ГОРЫ ПОЛЮД. КОГДА ХОЧЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
МОЩИ, СУРОВОСТИ,
МОЖНО ПРИЕХАТЬ
НА ЧУСОВУЮ.
Самостоятельная позиция
всегда имеет две стороны. С одной – экономика, ты должен быть действительно успешным, востребованным у публики. С другой – идеологическое
противостояние формату, который тебе навязывают.
Вопрос из зала:
- Насколько документально достоверны ваши произведения? Откуда вы берете эти истории?
- Я думаю, они исторически достоверны. Те «рассказы», что «Иванов – это Пикуль, Иванов – это Дюма, он не
знает истории, все придумывает», не совсем корректны. Я считаю, писатель, который пишет на исторические темы, имеет право отступать от больших событий, но отступать ровно настолько, чтобы это не влияло на структуру, на историю. Например, в романе «Тобол» я описываю прибытие князя Гагарина в Тобольск. У меня
он приезжает летом, в реале все происходило зимой. Я специально перенес время приезда. Для чего мне это было надо? Чтобы показать, как его встречает народ, как люди хватают его карету и на плечах втаскивают в гору, чтобы показать народное преклонение, народный восторг перед начальником. Если бы Гагарин приехал зимой, сани бы народ не потащил. Я перенес событие не потому, что не знаю историю, а потому, что это правильнее с художественной точки зрения. Нельзя считать исторический жанр некой периодизацией учебника истории. У историка, пишущего учебник, главное – факт, у писателя – образ. Чтобы образ больше соответствовал исторической эпохе, порой приходится отходить от факта, но, тем не менее, это историзм, я бы даже сказал, в большей степени, чем в работе историка. Так что свои романы я считаю полностью историческими, даже если это роман «Сердце Пармы», где действуют ведьмы. Там уже эпоха совсем другая,
чем в «Тоболе», это все-таки 15-й век, исторических источников осталось мало и простора для писательской фантазии гораздо больше. Но все, что известно об этой эпохе, в романе передано адекватно.
Вопрос из зала:
- Вы много путешествовали, в том числе по Уралу. Какое место на Урале произвело на вас самое сильное впечатление?
- Таких мест много, нельзя какое-то одно назвать. Когда хочется ощущения простора, эпоса, героики, хорошо поехать в Башкирию, в район шихана Тратау. Когда хочется ощущения древнерусской сказки, тайны, мрачности, тогда можно на Северный Урал в окрестности горы Полюд. Когда хочется производственной мощи, суровости, можно приехать на Чусовую. То есть каждая территория Урала связана со своей эмоцией, со своими ощущениями, и все они равно дороги душе.
- Считаете ли вы в школах, например, в среднем звене необходимым такой факультатив, как «История родного края»? И если да, зачем он нужен?
- Это сложный вопрос. Я много думал над ним, потому что и сам вел краеведческий кружок. Дело в том, что дети плохо запоминают информацию в чистом виде, она должна быть прочно связана с их жизненным опытом. Если про родные места им рассказали в поездке – они все запомнят. Если им то же самое расскажут на уроке – не запомнят ни черта. Краеведение немыслимо без путешествий по родному краю. Это все равно,
что учиться плавать в бассейне, куда не налили воду. Хотя, с другой стороны, получается, я говорю, что предмет «Краеведение» в школе не нужен. Нет, я говорю, что нужен достаточный уровень экономического развития, чтобы дети могли путешествовать, нужно внимание государства, чтобы такой предмет был в школе, и нужно уважение общества к своей земле, чтобы люди понимали, что это дело необходимое для становления личности. Сейчас нет ни того, ни другого, ни третьего.
- Насколько документально достоверны ваши произведения? Откуда вы берете эти истории?
- Я думаю, они исторически достоверны. Те «рассказы», что «Иванов – это Пикуль, Иванов – это Дюма, он не
знает истории, все придумывает», не совсем корректны. Я считаю, писатель, который пишет на исторические темы, имеет право отступать от больших событий, но отступать ровно настолько, чтобы это не влияло на структуру, на историю. Например, в романе «Тобол» я описываю прибытие князя Гагарина в Тобольск. У меня
он приезжает летом, в реале все происходило зимой. Я специально перенес время приезда. Для чего мне это было надо? Чтобы показать, как его встречает народ, как люди хватают его карету и на плечах втаскивают в гору, чтобы показать народное преклонение, народный восторг перед начальником. Если бы Гагарин приехал зимой, сани бы народ не потащил. Я перенес событие не потому, что не знаю историю, а потому, что это правильнее с художественной точки зрения. Нельзя считать исторический жанр некой периодизацией учебника истории. У историка, пишущего учебник, главное – факт, у писателя – образ. Чтобы образ больше соответствовал исторической эпохе, порой приходится отходить от факта, но, тем не менее, это историзм, я бы даже сказал, в большей степени, чем в работе историка. Так что свои романы я считаю полностью историческими, даже если это роман «Сердце Пармы», где действуют ведьмы. Там уже эпоха совсем другая,
чем в «Тоболе», это все-таки 15-й век, исторических источников осталось мало и простора для писательской фантазии гораздо больше. Но все, что известно об этой эпохе, в романе передано адекватно.
Вопрос из зала:
- Вы много путешествовали, в том числе по Уралу. Какое место на Урале произвело на вас самое сильное впечатление?
- Таких мест много, нельзя какое-то одно назвать. Когда хочется ощущения простора, эпоса, героики, хорошо поехать в Башкирию, в район шихана Тратау. Когда хочется ощущения древнерусской сказки, тайны, мрачности, тогда можно на Северный Урал в окрестности горы Полюд. Когда хочется производственной мощи, суровости, можно приехать на Чусовую. То есть каждая территория Урала связана со своей эмоцией, со своими ощущениями, и все они равно дороги душе.
- Считаете ли вы в школах, например, в среднем звене необходимым такой факультатив, как «История родного края»? И если да, зачем он нужен?
- Это сложный вопрос. Я много думал над ним, потому что и сам вел краеведческий кружок. Дело в том, что дети плохо запоминают информацию в чистом виде, она должна быть прочно связана с их жизненным опытом. Если про родные места им рассказали в поездке – они все запомнят. Если им то же самое расскажут на уроке – не запомнят ни черта. Краеведение немыслимо без путешествий по родному краю. Это все равно,
что учиться плавать в бассейне, куда не налили воду. Хотя, с другой стороны, получается, я говорю, что предмет «Краеведение» в школе не нужен. Нет, я говорю, что нужен достаточный уровень экономического развития, чтобы дети могли путешествовать, нужно внимание государства, чтобы такой предмет был в школе, и нужно уважение общества к своей земле, чтобы люди понимали, что это дело необходимое для становления личности. Сейчас нет ни того, ни другого, ни третьего.
САМА ЖИЗНЬ МНЕ ГОВОРИЛА: «ТЫ ЖИВЕШЬ НА УРАЛЕ. ТЫ НИКТО И ЖИВЕШЬ НИГДЕ». ДЛЯ МЕНЯ КРАЕВЕДЕНИЕ БЫЛО СПОСОБОМ ДОКАЗАТЬ СЕБЕ И МИРУ, ЧТО Я НЕ «НИКТО, ЖИВУЩИЙ НИГДЕ».
- Для вас краеведение стало способом полюбить землю, где вы родились?
- Я ее и так любил, ничего для этого не было нужно. Краеведение стало способом противостоять жизненной ситуации что ли. Сама жизнь мне говорила: «Ты живешь на Урале. Ты никто и живешь нигде». Поскольку я не считал себя никем, соответственно я не считал себя живущим нигде. Но про себя-то я все знал, а про свою землю – нет. Для меня краеведение было способом доказать себе и миру, что я не «никто, живущий нигде».
- Россия москвоцентрична. Взгляд всех регионов обращен к ней. Литература может заставить Москву-столицу посмотреть на регионы, заинтересоваться регионами?
- Я думаю, к сожалению, нет. Литература о провинции может быть высокой, может входить в классику русской культуры, но общественно-политическую ситуацию она не изменит. У литературы есть другая социальная и политическая функция. Литературные произведения могут сделать какие-то части России Россией, потому что
если нет символического капитала, общеизвестного мифа этой территории, то она как бы и не существует. Вот Чехов съездил на Сахалин – всё, мы знаем, что такое Сахалин, и никогда его не отдадим, это русская земля. А вот, например, назвать населенный пункт, где никто не был и ничего о нем не написано, не снято и этой
дыры как бы нет и развивать ее нет никакого смысла и интереса, и отдать ее не жалко. До недавнего прошлого так было и с Уралом. Не то чтобы я поднял Урал. До меня, разумеется, был Бажов, но по локации Бажов более узкий. Очень многие узнали о существовании реки Тобол и города Тобольска из моего романа. Мне приятно это не только в смысле писательской популярности, а в том смысле, что и в символическом отношении эти территории становятся частью русской культуры, то есть частью России как географическая ценность.
- Я ее и так любил, ничего для этого не было нужно. Краеведение стало способом противостоять жизненной ситуации что ли. Сама жизнь мне говорила: «Ты живешь на Урале. Ты никто и живешь нигде». Поскольку я не считал себя никем, соответственно я не считал себя живущим нигде. Но про себя-то я все знал, а про свою землю – нет. Для меня краеведение было способом доказать себе и миру, что я не «никто, живущий нигде».
- Россия москвоцентрична. Взгляд всех регионов обращен к ней. Литература может заставить Москву-столицу посмотреть на регионы, заинтересоваться регионами?
- Я думаю, к сожалению, нет. Литература о провинции может быть высокой, может входить в классику русской культуры, но общественно-политическую ситуацию она не изменит. У литературы есть другая социальная и политическая функция. Литературные произведения могут сделать какие-то части России Россией, потому что
если нет символического капитала, общеизвестного мифа этой территории, то она как бы и не существует. Вот Чехов съездил на Сахалин – всё, мы знаем, что такое Сахалин, и никогда его не отдадим, это русская земля. А вот, например, назвать населенный пункт, где никто не был и ничего о нем не написано, не снято и этой
дыры как бы нет и развивать ее нет никакого смысла и интереса, и отдать ее не жалко. До недавнего прошлого так было и с Уралом. Не то чтобы я поднял Урал. До меня, разумеется, был Бажов, но по локации Бажов более узкий. Очень многие узнали о существовании реки Тобол и города Тобольска из моего романа. Мне приятно это не только в смысле писательской популярности, а в том смысле, что и в символическом отношении эти территории становятся частью русской культуры, то есть частью России как географическая ценность.
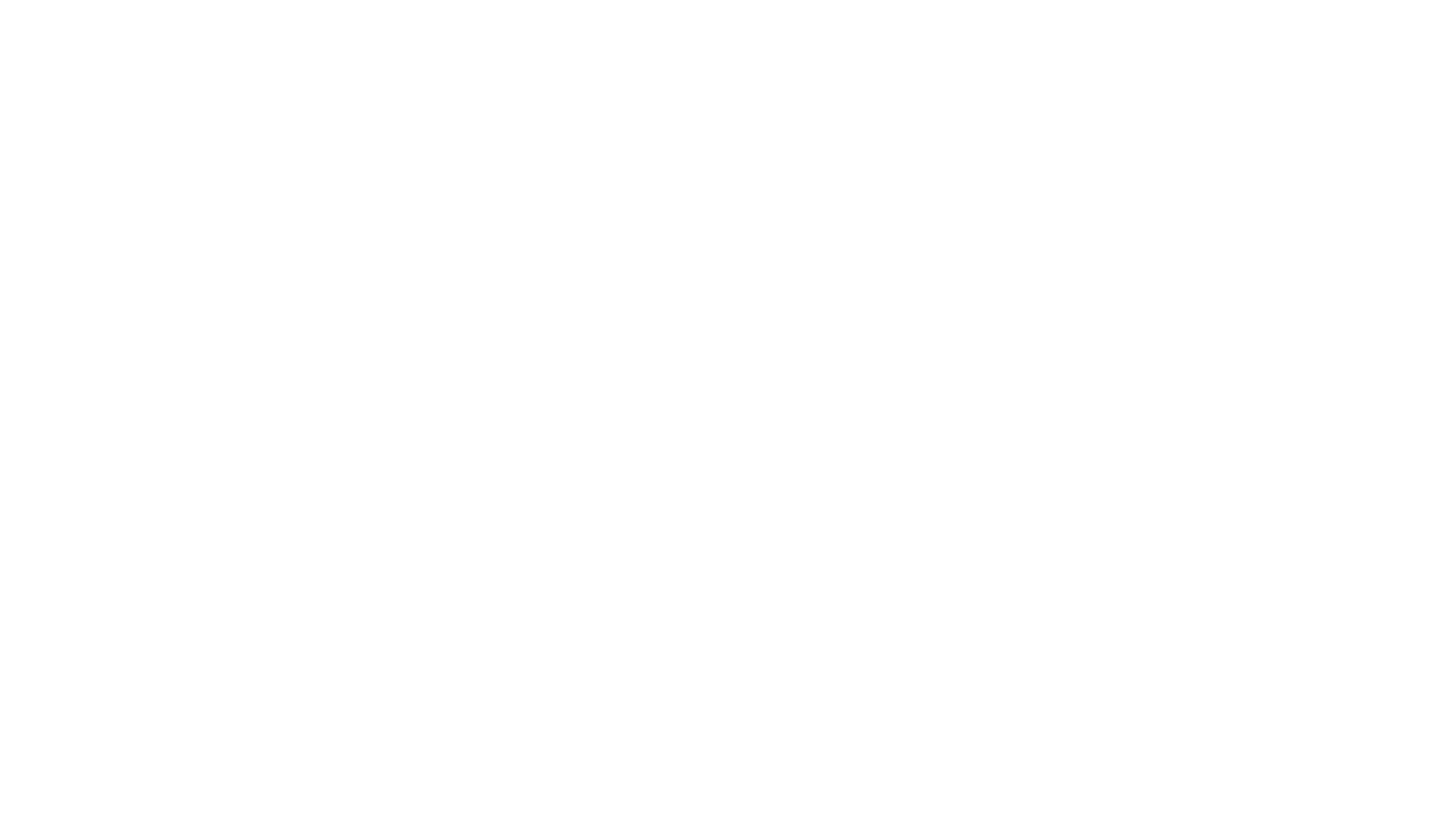
ХАБЕНСКИЙ СЫГРАЛ НЕ ТОГО
ПЕРСОНАЖА, КОТОРОГО НАПИСАЛ
Я, НО ЭТО ПРАВИЛЬНО. В 1995 ГОДУ
Я ОПИСАЛ ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
УЧИТЕЛЬ ВИКТОР СЛУЖКИН БЫЛ
ГЕРОЕМ ЭПОХИ 90-Х. ФИЛЬМ СНИМАЛИ
УЖЕ В 2012-М, И ХАБЕНСКИЙ СЫГРАЛ
ГЕРОЯ ЭПОХИ 2010-Х. В ЭТОМ СМЫСЛЕ
ОН ПОСТУПИЛ ВЕРНО.
ПЕРСОНАЖА, КОТОРОГО НАПИСАЛ
Я, НО ЭТО ПРАВИЛЬНО. В 1995 ГОДУ
Я ОПИСАЛ ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
УЧИТЕЛЬ ВИКТОР СЛУЖКИН БЫЛ
ГЕРОЕМ ЭПОХИ 90-Х. ФИЛЬМ СНИМАЛИ
УЖЕ В 2012-М, И ХАБЕНСКИЙ СЫГРАЛ
ГЕРОЯ ЭПОХИ 2010-Х. В ЭТОМ СМЫСЛЕ
ОН ПОСТУПИЛ ВЕРНО.
Были написаны три романа:
«Общага-на-крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», – но меня никто
не публиковал. Я продолжал писать,
не имея никакой надежды, жил по
принципу «делай, что должен, и будь,
что будет».
«Общага-на-крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», – но меня никто
не публиковал. Я продолжал писать,
не имея никакой надежды, жил по
принципу «делай, что должен, и будь,
что будет».
- Если бы вам доверили создать образ России на будущих олимпийских бегах, каким бы вы его сделали?
- Какой интересный вопрос, я даже не знаю. Вы меня поставили в тупик.
- А вы не видели, какой образ России создали японцы?
- Нет. А какой?
- Молодой человек с белой челкой наискосок, у него светлые шаровары с серебристыми ромбами, символ нашего флага присутствует в окраске пышных рукавов…
- Мне сложно представить образ России, потому что для этого нужно иметь мышление пиарщика, а у меня его нет. К тому же я вижу, какая Россия разнообразная, и сводить все к одному образу для меня неприемлемо. Я считаю, в нашей стране не должно быть национальной идеи, потому что она оставит кого-то обделенным. У нас все живут по-разному. Ну как можно придумать общую идею для московского хипстера и для кузнецкого шофера – это люди, которые живут по разным принципам, в разных временах.
- Для вас Россия – это Москва или провинция?
- Россия и то, и другое. Она разница всего, в этом и ее прелесть. Мне нравится в данном случае принцип, я не помню таких философов и общественных деятелей начала 20-го века, которые ратовали за цветущее многообразие. Вот Россия – это цветущее многообразие.
Вопрос из зала:
- Что может спасти провинцию от умирания, и есть ли оно или это обычное состояние провинции?
- Умирание, безусловно, есть, и провинцию от него столица не спасет никогда. Столица и не заинтересована в
этом. По правде говоря, она и не заметит, жива провинция или уже нет. Провинцию может спасти только она сама, но лично я пока особых подвижек в этом направлении не вижу. До тех пор, пока провинция не будет нужна сама себе, она будет умирать.
- Если вы часто обращаетесь к историческому развитию нашей страны, как вы представляете ее ближайшее будущее?
- Я не люблю говорить о политике, потому что разговоры о политике всегда сеют рознь. Вместе с ними начинается выяснение отношений, и все заканчивается готовностью к драке, красными мордами, выпученными глазами, сжатыми кулаками. Говорить о ближайшем будущем – это, в общем, говорить о политике. Но я какого-то будущего не вижу. То, что нам предлагается, – продление настоящего. Разумеется, это неправильно и, скорее всего, невозможно. Ну невозможно настоящее длить до бесконечности. Новое и небывалое будущее все равно придет, но в какую сторону повернет телега истории, я не знаю, поэтому воздержусь и отвечу так туманно. ///
- Какой интересный вопрос, я даже не знаю. Вы меня поставили в тупик.
- А вы не видели, какой образ России создали японцы?
- Нет. А какой?
- Молодой человек с белой челкой наискосок, у него светлые шаровары с серебристыми ромбами, символ нашего флага присутствует в окраске пышных рукавов…
- Мне сложно представить образ России, потому что для этого нужно иметь мышление пиарщика, а у меня его нет. К тому же я вижу, какая Россия разнообразная, и сводить все к одному образу для меня неприемлемо. Я считаю, в нашей стране не должно быть национальной идеи, потому что она оставит кого-то обделенным. У нас все живут по-разному. Ну как можно придумать общую идею для московского хипстера и для кузнецкого шофера – это люди, которые живут по разным принципам, в разных временах.
- Для вас Россия – это Москва или провинция?
- Россия и то, и другое. Она разница всего, в этом и ее прелесть. Мне нравится в данном случае принцип, я не помню таких философов и общественных деятелей начала 20-го века, которые ратовали за цветущее многообразие. Вот Россия – это цветущее многообразие.
Вопрос из зала:
- Что может спасти провинцию от умирания, и есть ли оно или это обычное состояние провинции?
- Умирание, безусловно, есть, и провинцию от него столица не спасет никогда. Столица и не заинтересована в
этом. По правде говоря, она и не заметит, жива провинция или уже нет. Провинцию может спасти только она сама, но лично я пока особых подвижек в этом направлении не вижу. До тех пор, пока провинция не будет нужна сама себе, она будет умирать.
- Если вы часто обращаетесь к историческому развитию нашей страны, как вы представляете ее ближайшее будущее?
- Я не люблю говорить о политике, потому что разговоры о политике всегда сеют рознь. Вместе с ними начинается выяснение отношений, и все заканчивается готовностью к драке, красными мордами, выпученными глазами, сжатыми кулаками. Говорить о ближайшем будущем – это, в общем, говорить о политике. Но я какого-то будущего не вижу. То, что нам предлагается, – продление настоящего. Разумеется, это неправильно и, скорее всего, невозможно. Ну невозможно настоящее длить до бесконечности. Новое и небывалое будущее все равно придет, но в какую сторону повернет телега истории, я не знаю, поэтому воздержусь и отвечу так туманно. ///
Follow on Facebook
