челябинск. бизнес
Земля обитаемая
Мы встретились с Алексеем Кобылиным, министром сельского хозяйства Челябинской области, чтобы узнать, чем живут и дышат аграрии региона.
«Россия производит впечатление великой державы, но больше она ничего не производит», – сказал однажды известный журналист, автор многочисленных афоризмов, Акрам Муртазаев.
Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области, столь категоричным быть не захотел. Мы встретились с ним, чтобы узнать, чем живут и дышат аграрии региона. И надо сказать, его рассказ не уместился в одну строку.
Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области, столь категоричным быть не захотел. Мы встретились с ним, чтобы узнать, чем живут и дышат аграрии региона. И надо сказать, его рассказ не уместился в одну строку.
- Алексей Владимирович, как вы оцениваете перспективы вверенной вам отрасли? Какой у нее потенциал?
- Россия запросто может прокормить несколько миллиардов человек. Если говорить с позиции министра, достаточно комфортной цифрой для нашей страны было бы население порядка 600 миллионов. Мы сможем обеспечить их продовольствием, осуществив постоянный, без каких-то резких колебаний, рост экономики. И для этого у нас есть все: достаточное количество земли, относительно благоприятные для ведения сельского хозяйства условия. Если говорить о Челябинской области, то на протяжении уже многих лет мы сталкиваемся совсем с другой проблемой. Наш рост сдерживается численностью населения области и его платежеспособностью, то есть уровнем спроса. Пример для нас – Голландия, которая на гораздо меньших территориях обеспечивает продовольствием не только себя, но и является крупным экспортером. Благодаря морскому климату и географическому положению они выращивают огромное количество не только тюльпанов, но и других самых разных растений. Мы тоже ищем свои конкурентные преимущества. На протяжении последних двух-трех лет говорим про диверсификацию и отход от монокультуры в сторону серых
хлебов как основной составляющей кормовой базы животноводства и растениеводства. В десять раз нарастили площади масличных: лен, рапс, подсолнечник, которые дают хороший эффект и востребованы на
рынке. Это ключевой фактор. Долгие годы мы измеряли успех количеством урожая. Нам был нужен объем: больше, больше, больше. И никто не говорил о том, как это будет продаваться. Теперь мы пришли к тому, что больше, возможно, и не нужно. Нужен баланс, который определяет рынок. Соответственно, задача министерств (и регионального, и федерального) осуществлять мониторинг ценовой ситуации, рыночной конъюнктуры, движений на мировом рынке, чтобы дать посыл сельхозтоваропроизводителям, помогать им в поиске рынков сбыта и т.д.
- Россия запросто может прокормить несколько миллиардов человек. Если говорить с позиции министра, достаточно комфортной цифрой для нашей страны было бы население порядка 600 миллионов. Мы сможем обеспечить их продовольствием, осуществив постоянный, без каких-то резких колебаний, рост экономики. И для этого у нас есть все: достаточное количество земли, относительно благоприятные для ведения сельского хозяйства условия. Если говорить о Челябинской области, то на протяжении уже многих лет мы сталкиваемся совсем с другой проблемой. Наш рост сдерживается численностью населения области и его платежеспособностью, то есть уровнем спроса. Пример для нас – Голландия, которая на гораздо меньших территориях обеспечивает продовольствием не только себя, но и является крупным экспортером. Благодаря морскому климату и географическому положению они выращивают огромное количество не только тюльпанов, но и других самых разных растений. Мы тоже ищем свои конкурентные преимущества. На протяжении последних двух-трех лет говорим про диверсификацию и отход от монокультуры в сторону серых
хлебов как основной составляющей кормовой базы животноводства и растениеводства. В десять раз нарастили площади масличных: лен, рапс, подсолнечник, которые дают хороший эффект и востребованы на
рынке. Это ключевой фактор. Долгие годы мы измеряли успех количеством урожая. Нам был нужен объем: больше, больше, больше. И никто не говорил о том, как это будет продаваться. Теперь мы пришли к тому, что больше, возможно, и не нужно. Нужен баланс, который определяет рынок. Соответственно, задача министерств (и регионального, и федерального) осуществлять мониторинг ценовой ситуации, рыночной конъюнктуры, движений на мировом рынке, чтобы дать посыл сельхозтоваропроизводителям, помогать им в поиске рынков сбыта и т.д.
- Да, у наших аграриев две беды: большой урожай и маленький урожай.
- Хорошим выходом из этой ситуации явилось бы более жесткое государственное регулирование ценовой политики, а не святая вера в то, что рынок сам все решит, сам себя отрегулирует. Он, конечно, отрегулирует, но вся маржа при этом останется у самых продвинутых в этом плане, изворотливых.
- У коммерсантов.
- К великому сожалению, аграрии как производители сырья находятся в самом начале производственно-сбытовой цепочки, а при разделении добавленной стоимости среди её участников – на последнем месте после переработчиков и торговли. Но чтобы планировать развитие производства, они всё-таки должны иметь гарантированный уровень дохода, а не продавать сырьё ниже себестоимости.
- А вы продолжаете смотреть в сторону Китая?
- Это необходимость, потому что там есть рынок сбыта. Там есть люди, и эти люди хотят есть. У нас людей мало. Поэтому нужно одновременно поднимать рождаемость у себя в стране и в регионе и обеспечивать тех, кто с этим справляется лучше нас.
- Какое-то время назад, лет, наверное, пять, мы говорили о транспортном узле, хабе, который откроет нам путь в Китай. С ТЛК «Южноуральский» связывали в том числе возникновение агропромышленного кластера в Увельском районе. Чем дело закончилось?
- Изначально было понятно, что развитие этого проекта потребует времени. Налаживание экономических связей, движение продукции – это все связано не столько с сельским хозяйством, сколько с экономической конъюнктурой, которая эти транспортно-логистические цепочки определяет.
Были сложности в реализации этого проекта, потому что он очень масштабный, в его строительство вложено порядка 6 миллиардов рублей. Ряд компаний, не связанных с сельским хозяйством, этим хабом интересуются и выстраивают свои цепочки именно через него. Кроме того, наши перерабатывающие компании в связи с реализацией национального проекта планируют значительное увеличение объёмов экспорта. ТЛК (сейчас
он называется сухой порт «Южноуральский») будет использоваться как альтернативный канал поставки экспорта в Казахстан и азиатские страны ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме ТЛК «Южноуральский» мы говорим сегодня об инвестиционном проекте оптово-распределительного центра «Оптимум». Что касается сельхозтоваропроизводителей, то в Увельском районе компания «Ресурс», наш крупнейший экспортёр (ТМ «Увелка»), строит свой производственный распределительный центр, в
привязке в том числе к мощностям ТЛК.
Объем производства постепенно подвигает нас к тому, чтобы заниматься логистикой. Мы с нетерпением следим за этими проектами, ждем от них адекватной отдачи. Сегодня для работы в Китае у нас аккредитовано шесть компаний, в основном производителей зерна. Еще два птицеводческих холдинга – это «Равис» и «Здоровая ферма». Поэтому перевалочные базы нам нужны, в том числе с холодильным оборудованием.
- Я правильно понимаю: настраивание взаимоотношений с Китаем не зависит от судьбы проекта ТЛК «Южноуральский», его можно оставить за скобками и просто договариваться о товарообмене, а потом искать пути поставок?
- Да, реально так и происходит, потому что если ты в свою цепочку вписываешь еще одного потребителя, соответственно, появляется еще одна добавленная стоимость. Это уже вопрос коммерческий. И если людям будут предложены выгодные условия, они пойдут по этой дороге.
- Все-таки в чем вы видите причины неудачи этого проекта?
- У него есть сложности с окупаемостью, потому что привлеченные ресурсы требуют возвратности. Но сам проект, я считаю, нельзя признать неудавшимся, потому что настанет время, когда он будет реально востребован. Наши интересы здесь абсолютно понятны: мы хотим развития торговли, хотим налоговых отчислений от работы объекта в бюджет Челябинской области.
- Хорошим выходом из этой ситуации явилось бы более жесткое государственное регулирование ценовой политики, а не святая вера в то, что рынок сам все решит, сам себя отрегулирует. Он, конечно, отрегулирует, но вся маржа при этом останется у самых продвинутых в этом плане, изворотливых.
- У коммерсантов.
- К великому сожалению, аграрии как производители сырья находятся в самом начале производственно-сбытовой цепочки, а при разделении добавленной стоимости среди её участников – на последнем месте после переработчиков и торговли. Но чтобы планировать развитие производства, они всё-таки должны иметь гарантированный уровень дохода, а не продавать сырьё ниже себестоимости.
- А вы продолжаете смотреть в сторону Китая?
- Это необходимость, потому что там есть рынок сбыта. Там есть люди, и эти люди хотят есть. У нас людей мало. Поэтому нужно одновременно поднимать рождаемость у себя в стране и в регионе и обеспечивать тех, кто с этим справляется лучше нас.
- Какое-то время назад, лет, наверное, пять, мы говорили о транспортном узле, хабе, который откроет нам путь в Китай. С ТЛК «Южноуральский» связывали в том числе возникновение агропромышленного кластера в Увельском районе. Чем дело закончилось?
- Изначально было понятно, что развитие этого проекта потребует времени. Налаживание экономических связей, движение продукции – это все связано не столько с сельским хозяйством, сколько с экономической конъюнктурой, которая эти транспортно-логистические цепочки определяет.
Были сложности в реализации этого проекта, потому что он очень масштабный, в его строительство вложено порядка 6 миллиардов рублей. Ряд компаний, не связанных с сельским хозяйством, этим хабом интересуются и выстраивают свои цепочки именно через него. Кроме того, наши перерабатывающие компании в связи с реализацией национального проекта планируют значительное увеличение объёмов экспорта. ТЛК (сейчас
он называется сухой порт «Южноуральский») будет использоваться как альтернативный канал поставки экспорта в Казахстан и азиатские страны ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме ТЛК «Южноуральский» мы говорим сегодня об инвестиционном проекте оптово-распределительного центра «Оптимум». Что касается сельхозтоваропроизводителей, то в Увельском районе компания «Ресурс», наш крупнейший экспортёр (ТМ «Увелка»), строит свой производственный распределительный центр, в
привязке в том числе к мощностям ТЛК.
Объем производства постепенно подвигает нас к тому, чтобы заниматься логистикой. Мы с нетерпением следим за этими проектами, ждем от них адекватной отдачи. Сегодня для работы в Китае у нас аккредитовано шесть компаний, в основном производителей зерна. Еще два птицеводческих холдинга – это «Равис» и «Здоровая ферма». Поэтому перевалочные базы нам нужны, в том числе с холодильным оборудованием.
- Я правильно понимаю: настраивание взаимоотношений с Китаем не зависит от судьбы проекта ТЛК «Южноуральский», его можно оставить за скобками и просто договариваться о товарообмене, а потом искать пути поставок?
- Да, реально так и происходит, потому что если ты в свою цепочку вписываешь еще одного потребителя, соответственно, появляется еще одна добавленная стоимость. Это уже вопрос коммерческий. И если людям будут предложены выгодные условия, они пойдут по этой дороге.
- Все-таки в чем вы видите причины неудачи этого проекта?
- У него есть сложности с окупаемостью, потому что привлеченные ресурсы требуют возвратности. Но сам проект, я считаю, нельзя признать неудавшимся, потому что настанет время, когда он будет реально востребован. Наши интересы здесь абсолютно понятны: мы хотим развития торговли, хотим налоговых отчислений от работы объекта в бюджет Челябинской области.
“
ПО МЯСУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОПОСТАВИМА С МОЛОКОМ, ОНА ДЕРЖИТСЯ НА УРОВНЕ 50%. ПО СВИНИНЕ И ПТИЦЕ МЫ ТРОЕКРАТНО ПРЕВЫСИЛИ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА. КОРМИМ ДРУГИХ. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ВСЕХ ВИДОВ – 540 ТЫСЯЧ ТОНН. ИЗ НИХ 345 ТЫСЯЧ ПРИХОДИТСЯ НА ПТИЦУ, 152 ТЫСЯЧИ – ЭТО СВИНОВОДСТВО. И ПОРЯДКА 40 ТЫСЯЧ – КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ.
- Возникновение мощных сельскохозяйственных холдингов на территории Челябинской области стало результатом политики софинансирования. Правительство Челябинской области предлагало конкретным бизнесменам брать кредит под залог имущества. Со своей стороны предоставляло гарантию и жестко контролировало исполнение инвестпроектов. Сегодня эти птицефабрики работают, свинокомплексы существуют. Я хочу спросить: действовавшая тогда схема, которая однажды привела к успеху, сейчас не работает?
- Работает.
- Если она работает, то почему многострадальный проект «Бионики», который был поддержан и губернатором, и всеми депутатами Заксобрания, до сих пор не может привлечь финансирование? Что изменилось?
- В отличие от традиционных отраслей (птицеводства и свиноводства) здесь срабатывает фактор недоверия банков к этой теме. Возможно, в том числе по причине некомпетентности в новом направлении. При отсутствии аналогов реализации подобного проекта фактом остается то, что проектное финансирование
у нас пока не работает. На самом деле у нас под него есть буквально все, кроме решения одного из банков.
- Что должно случиться, чтобы это произошло?
- Мы ищем дополнительные варианты, в том числе с привлечением средств государственной поддержки. Возможно, на следующий год будем предлагать какую-то из схем государственно-частного партнерства. Альтернативная идея: выделить часть средств на обеспечение реализации проекта. Есть система льготного кредитования, она поддерживается на уровне федерального бюджета, финансируется за счет него, и банки охотно идут в эту тему; по этому проекту мы хотим сделать нечто похожее, выделить льготную субсидию за
счет средств областного бюджета. Это пока идея, она прорабатывается. Проект на самом деле интересный. Его аналоги есть, и в стране в том числе. При этом объем средств не такой большой.
- Сколько сейчас федеральных денег вливается в аграрный сектор Челябинской области?
- Цифра всем известна. Порядка 2 миллиардов рублей в год. Сопоставимая сумма, даже чуть больше, выделяется за счет средств областного бюджета. В целом у нас получается по этому году 4 миллиарда 147 миллионов рублей.
- Если сравнивать с соседями, это больше или меньше?
- У Екатеринбурга, например, вообще есть закон, где написано, что бюджет сельского хозяйства ежегодно должен составлять не менее 3% от всего бюджета Свердловской области. При этом там есть такая хитрая оговорка, которой мы завидуем, что поддержка не должна быть меньше, чем в году предыдущем. Если бы у нашего сельхозпроизводителя гарантии были именно в таком объеме, мы двигались бы быстрее.
- Работает.
- Если она работает, то почему многострадальный проект «Бионики», который был поддержан и губернатором, и всеми депутатами Заксобрания, до сих пор не может привлечь финансирование? Что изменилось?
- В отличие от традиционных отраслей (птицеводства и свиноводства) здесь срабатывает фактор недоверия банков к этой теме. Возможно, в том числе по причине некомпетентности в новом направлении. При отсутствии аналогов реализации подобного проекта фактом остается то, что проектное финансирование
у нас пока не работает. На самом деле у нас под него есть буквально все, кроме решения одного из банков.
- Что должно случиться, чтобы это произошло?
- Мы ищем дополнительные варианты, в том числе с привлечением средств государственной поддержки. Возможно, на следующий год будем предлагать какую-то из схем государственно-частного партнерства. Альтернативная идея: выделить часть средств на обеспечение реализации проекта. Есть система льготного кредитования, она поддерживается на уровне федерального бюджета, финансируется за счет него, и банки охотно идут в эту тему; по этому проекту мы хотим сделать нечто похожее, выделить льготную субсидию за
счет средств областного бюджета. Это пока идея, она прорабатывается. Проект на самом деле интересный. Его аналоги есть, и в стране в том числе. При этом объем средств не такой большой.
- Сколько сейчас федеральных денег вливается в аграрный сектор Челябинской области?
- Цифра всем известна. Порядка 2 миллиардов рублей в год. Сопоставимая сумма, даже чуть больше, выделяется за счет средств областного бюджета. В целом у нас получается по этому году 4 миллиарда 147 миллионов рублей.
- Если сравнивать с соседями, это больше или меньше?
- У Екатеринбурга, например, вообще есть закон, где написано, что бюджет сельского хозяйства ежегодно должен составлять не менее 3% от всего бюджета Свердловской области. При этом там есть такая хитрая оговорка, которой мы завидуем, что поддержка не должна быть меньше, чем в году предыдущем. Если бы у нашего сельхозпроизводителя гарантии были именно в таком объеме, мы двигались бы быстрее.
“
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТЕПЕННО ПОДВИГАЕТ НАС К ТОМУ, ЧТОБЫ
ЗАНИМАТЬСЯ ЛОГИСТИКОЙ. МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ СЛЕДИМ ЗА ЭТИМИ
ПРОЕКТАМИ, ЖДЕМ ОТ НИХ АДЕКВАТНОЙ ОТДАЧИ. СЕГОДНЯ ДЛЯ
РАБОТЫ В КИТАЕ У НАС АККРЕДИТОВАНО ШЕСТЬ КОМПАНИЙ, В ОСНОВНОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА. ЕЩЕ ДВА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ХОЛДИНГА – ЭТО «РАВИС» И «ЗДОРОВАЯ ФЕРМА». ПОЭТОМУ ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ БАЗЫ НАМ НУЖНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ХОЛОДИЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.
ЗАНИМАТЬСЯ ЛОГИСТИКОЙ. МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ СЛЕДИМ ЗА ЭТИМИ
ПРОЕКТАМИ, ЖДЕМ ОТ НИХ АДЕКВАТНОЙ ОТДАЧИ. СЕГОДНЯ ДЛЯ
РАБОТЫ В КИТАЕ У НАС АККРЕДИТОВАНО ШЕСТЬ КОМПАНИЙ, В ОСНОВНОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА. ЕЩЕ ДВА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ХОЛДИНГА – ЭТО «РАВИС» И «ЗДОРОВАЯ ФЕРМА». ПОЭТОМУ ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ БАЗЫ НАМ НУЖНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ХОЛОДИЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.
- Какова доля сельского хозяйства в ВРП? И каков его вклад в формирование бюджета?
- По той статистике, которую я наблюдал в последнее время, наш объем порядка 9% от валового регионального продукта в Челябинской области. Раньше эта цифра составляла больше – порядка 13%. Но сейчас мы наблюдаем заметный рост экономики вообще и промышленности в частности, поэтому наша цифра
стала выглядеть чуть бледнее.
- Почему же сельское хозяйство не растет в том числе?
- У нас есть свои сложности. Работаем в зоне рискованного земледелия. 2018 год по объему продукции растениеводства был менее результативным, чем 2017-й. Хотя экономически хозяйства все-таки выиграли за счёт рыночных цен, модернизации производства.
- То есть у них выросла прибыль?
- Да, мы приросли по прибыли на 3,5 миллиарда рублей. Это позволяет приобретать технику, соответственно, приводит к дальнейшему росту и повышению экономической эффективности. Поэтому, несмотря на то, что в этом году прогнозы у нас не очень хорошие, пока настроение остается рабочим.
- А с чем связаны не очень хорошие прогнозы?
- В ряде районов зафиксирована почвенно-атмосферная засуха.
- Вроде дожди сплошные идут.
- Дожди идут в городе Челябинске и северной зоне, в южные районы они не доходят. А те дожди, которые проходят, просто сбивают пыль, это увлажнение верхнего слоя до 5 мм, оно не влияет на ситуацию. Поэтому есть большая проблема с заготовкой кормов. Мы сосредоточились на ее решении. Ну и продолжаем надеяться на дожди. Часть поздних посевов еще можно спасти. Если нет, то тогда будет плохо. По объемам мы существенно проиграем.
- Может быть, тогда вырастет цена?
- Нет, поскольку мы в рынке, и в том числе мировом. На мировом рынке тенденция к снижению цены на зерно по отношению к прошлому году есть. Кроме всего прочего, все наши дожди ушли в Курганскую область. Я думаю, что там коллеги помогут.
- Мы вам традиционно помогаем)
- Да, помогаете очень сильно. Но факт остается фактом. У наших аграриев в связи с засухой будут проблемы, и мы готовимся к тому, чтобы какие-то меры предпринимать для их поддержки.
- Ваш коллега и предшественник Сергей Сушков в 2016 году считал, что развитие села должно идти по пути создания крупных агрохолдингов. Ему заочно оппонировал Александр Кретов, который в интервью нашему журналу говорил о том, что никогда растениеводство в холдинге не будет столь эффективным, как у фермера, который может сесть на пашню голой попой и принять решение, сеять ему или не сеять. Тот, кто не видит, где поля начинаются, а где заканчиваются, не может проконтролировать процесс. Ваше мнение? По какому пути должны пойти мы: нужно
ли развивать деревню, поддерживая мелкие и средние фермерские хозяйства, или будущее за агропромышленными гигантами?
- Не соглашусь с Александром Владимировичем. Вопрос не в том, кто куда может сесть, а в том, насколько качественно можно подойти к этой работе. И крестьянские фермерские хозяйства, и холдинги в одинаковой степени качественно могут подойти к вопросу возделывания сельскохозяйственной культуры.
- Насколько эффективно?
- И в том числе эффективно. Холдинги обладают большими финансовыми возможностями в осовременивании производства, они применяют лучшую технику, лучшие технологии, удобрения, средства защиты растений и
т.д. В то время как рядовому сельхозтоваропроизводителю порой просто не хватает компетенций. Да, ситуация меняется. Мы говорим о том, что сельское хозяйство должно быть разноуровневым. Только после этого оно становится устойчивым. Если в объёме превалируют холдинги, есть риски, что такое крупное предприятие однажды схлопнется и ты будешь иметь огромные убытки. Так, в общем-то, и происходило. Были у нас такие примеры. Поэтому нет никаких догм. Хороши любые формы предпринимательства: и крупные холдинги,
и средние хозяйства, и фермерские. Вопрос в том, чтобы у каждого из них росла компетенция и у каждой компании были конкурентные преимущества.
- Нужно ли поддерживать и развивать деревню?
- На эту тему были разные мысли и подходы. Сначала считали, что поддерживать нужно слабых, чтобы они не умерли. Потом – сильных, потому что сильный выживет и станет локомотивом для слабых. В этом я вижу желание упростить себе задачу, ну и как-то все разграничить. Не работает. Какое бы ни было предприятие, оно имеет право на поддержку по одной простой причине: это залог того, что мы с вами будем жить, ведь без пищи человек жить не может. Если мы не понимаем этого, если мы позволяем отдать сельское хозяйство на растерзание крупной промышленности, энергетике, торговым сетям, мы теряем свою собственную основу. Слабость сельского хозяйства именно в том, что оно менее защищено по сравнению с крупными отраслями.
Всегда так было. И весь передел остается не в тех руках, не в тех карманах. Возьмем молоко. Самый вопиющий фактор, который не позволяет молочному животноводству развиваться, – это то, что есть три участника рынка. Производители молока – сырья, переработчики и ритейл.
- Меньше всего денег остается у производителя.
- Между этими тремя участниками нужно жесткое нормативное регулирование. Мы его, собственно, и не можем добиться. Это относится не только к молоку. В целом к любой продукции сельского хозяйства. Переработчики, допустим, имеют свою законную маржу – не менее 15%. Они себя защищают. При этом
они тоже в подчиненной роли от торговли, потому что сети (а они являются основным распределителем конечного продукта) забирают себе максимальное количество прибыли. Государство каждый день ищет деньги на поддержку сельского хозяйства, а деньги-то у нас есть! Надо просто понять, что продовольственные товары не могут быть беспрестанным, бездонным колодцем для роста торговых сетей. Почему торговые сети у нас так быстро развились? Только за счет того, что эти средства, которые постоянно изымаются от сельхозтоваропроизводителей и от переработки, идут туда. Вот и все. Начинаем ограничивать – да, люди
уже привыкли к этой прибыли, они считают ее уже своей.
- По той статистике, которую я наблюдал в последнее время, наш объем порядка 9% от валового регионального продукта в Челябинской области. Раньше эта цифра составляла больше – порядка 13%. Но сейчас мы наблюдаем заметный рост экономики вообще и промышленности в частности, поэтому наша цифра
стала выглядеть чуть бледнее.
- Почему же сельское хозяйство не растет в том числе?
- У нас есть свои сложности. Работаем в зоне рискованного земледелия. 2018 год по объему продукции растениеводства был менее результативным, чем 2017-й. Хотя экономически хозяйства все-таки выиграли за счёт рыночных цен, модернизации производства.
- То есть у них выросла прибыль?
- Да, мы приросли по прибыли на 3,5 миллиарда рублей. Это позволяет приобретать технику, соответственно, приводит к дальнейшему росту и повышению экономической эффективности. Поэтому, несмотря на то, что в этом году прогнозы у нас не очень хорошие, пока настроение остается рабочим.
- А с чем связаны не очень хорошие прогнозы?
- В ряде районов зафиксирована почвенно-атмосферная засуха.
- Вроде дожди сплошные идут.
- Дожди идут в городе Челябинске и северной зоне, в южные районы они не доходят. А те дожди, которые проходят, просто сбивают пыль, это увлажнение верхнего слоя до 5 мм, оно не влияет на ситуацию. Поэтому есть большая проблема с заготовкой кормов. Мы сосредоточились на ее решении. Ну и продолжаем надеяться на дожди. Часть поздних посевов еще можно спасти. Если нет, то тогда будет плохо. По объемам мы существенно проиграем.
- Может быть, тогда вырастет цена?
- Нет, поскольку мы в рынке, и в том числе мировом. На мировом рынке тенденция к снижению цены на зерно по отношению к прошлому году есть. Кроме всего прочего, все наши дожди ушли в Курганскую область. Я думаю, что там коллеги помогут.
- Мы вам традиционно помогаем)
- Да, помогаете очень сильно. Но факт остается фактом. У наших аграриев в связи с засухой будут проблемы, и мы готовимся к тому, чтобы какие-то меры предпринимать для их поддержки.
- Ваш коллега и предшественник Сергей Сушков в 2016 году считал, что развитие села должно идти по пути создания крупных агрохолдингов. Ему заочно оппонировал Александр Кретов, который в интервью нашему журналу говорил о том, что никогда растениеводство в холдинге не будет столь эффективным, как у фермера, который может сесть на пашню голой попой и принять решение, сеять ему или не сеять. Тот, кто не видит, где поля начинаются, а где заканчиваются, не может проконтролировать процесс. Ваше мнение? По какому пути должны пойти мы: нужно
ли развивать деревню, поддерживая мелкие и средние фермерские хозяйства, или будущее за агропромышленными гигантами?
- Не соглашусь с Александром Владимировичем. Вопрос не в том, кто куда может сесть, а в том, насколько качественно можно подойти к этой работе. И крестьянские фермерские хозяйства, и холдинги в одинаковой степени качественно могут подойти к вопросу возделывания сельскохозяйственной культуры.
- Насколько эффективно?
- И в том числе эффективно. Холдинги обладают большими финансовыми возможностями в осовременивании производства, они применяют лучшую технику, лучшие технологии, удобрения, средства защиты растений и
т.д. В то время как рядовому сельхозтоваропроизводителю порой просто не хватает компетенций. Да, ситуация меняется. Мы говорим о том, что сельское хозяйство должно быть разноуровневым. Только после этого оно становится устойчивым. Если в объёме превалируют холдинги, есть риски, что такое крупное предприятие однажды схлопнется и ты будешь иметь огромные убытки. Так, в общем-то, и происходило. Были у нас такие примеры. Поэтому нет никаких догм. Хороши любые формы предпринимательства: и крупные холдинги,
и средние хозяйства, и фермерские. Вопрос в том, чтобы у каждого из них росла компетенция и у каждой компании были конкурентные преимущества.
- Нужно ли поддерживать и развивать деревню?
- На эту тему были разные мысли и подходы. Сначала считали, что поддерживать нужно слабых, чтобы они не умерли. Потом – сильных, потому что сильный выживет и станет локомотивом для слабых. В этом я вижу желание упростить себе задачу, ну и как-то все разграничить. Не работает. Какое бы ни было предприятие, оно имеет право на поддержку по одной простой причине: это залог того, что мы с вами будем жить, ведь без пищи человек жить не может. Если мы не понимаем этого, если мы позволяем отдать сельское хозяйство на растерзание крупной промышленности, энергетике, торговым сетям, мы теряем свою собственную основу. Слабость сельского хозяйства именно в том, что оно менее защищено по сравнению с крупными отраслями.
Всегда так было. И весь передел остается не в тех руках, не в тех карманах. Возьмем молоко. Самый вопиющий фактор, который не позволяет молочному животноводству развиваться, – это то, что есть три участника рынка. Производители молока – сырья, переработчики и ритейл.
- Меньше всего денег остается у производителя.
- Между этими тремя участниками нужно жесткое нормативное регулирование. Мы его, собственно, и не можем добиться. Это относится не только к молоку. В целом к любой продукции сельского хозяйства. Переработчики, допустим, имеют свою законную маржу – не менее 15%. Они себя защищают. При этом
они тоже в подчиненной роли от торговли, потому что сети (а они являются основным распределителем конечного продукта) забирают себе максимальное количество прибыли. Государство каждый день ищет деньги на поддержку сельского хозяйства, а деньги-то у нас есть! Надо просто понять, что продовольственные товары не могут быть беспрестанным, бездонным колодцем для роста торговых сетей. Почему торговые сети у нас так быстро развились? Только за счет того, что эти средства, которые постоянно изымаются от сельхозтоваропроизводителей и от переработки, идут туда. Вот и все. Начинаем ограничивать – да, люди
уже привыкли к этой прибыли, они считают ее уже своей.
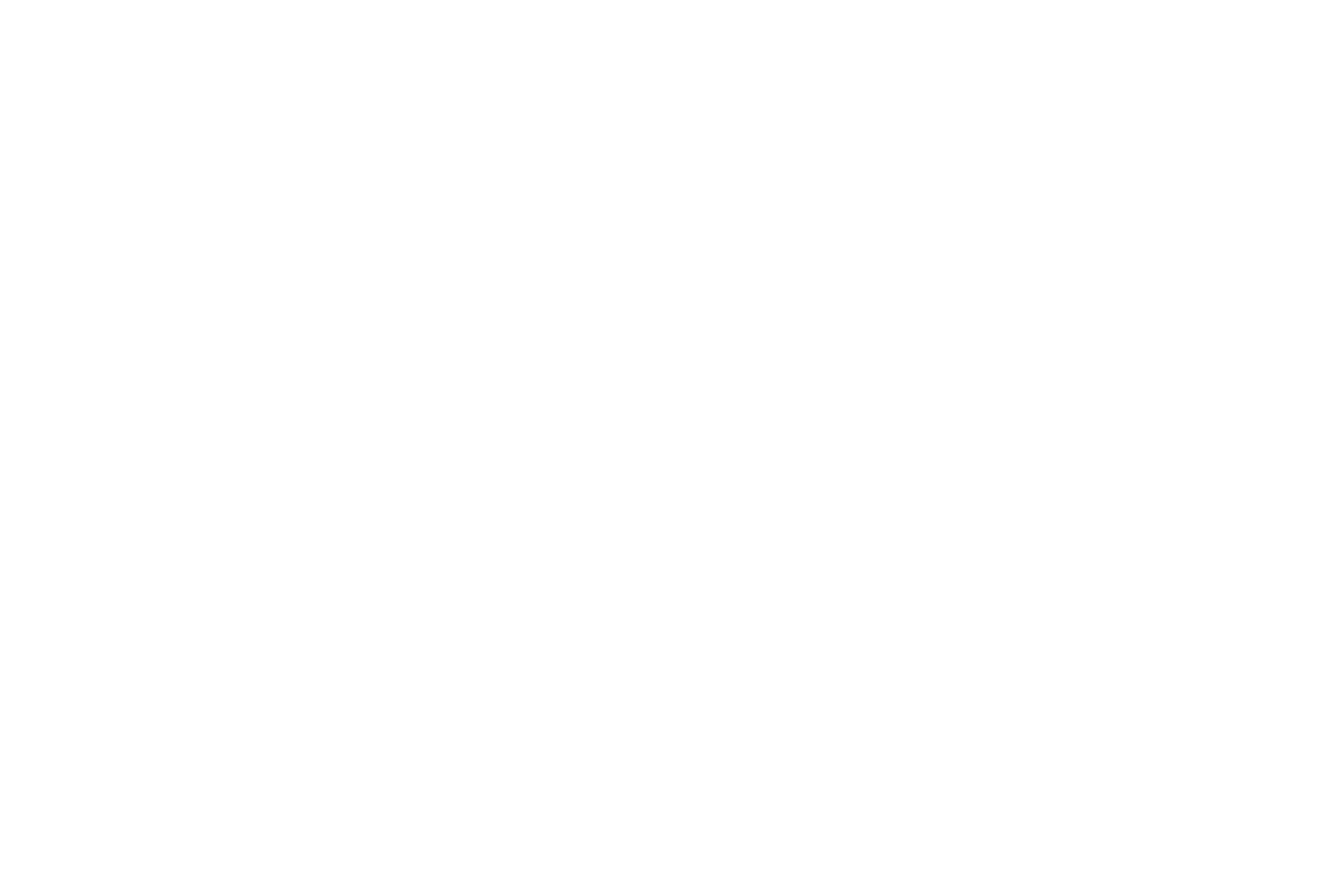
- А это вообще возможно регулировать?
- Всё возможно, было бы желание и был бы правильный посыл.
- 6 августа 2014 года было введено продуктовое эмбарго. Сначала на один год, потом четырежды продлевалось, в последний раз срок был установлен до 31 января 2019 года. Спустя шесть лет с момента введения как вы оцениваете эффективность данного мероприятия для развития отечественных аграриев и животноводов?
- Его надо было раньше ввести. Продуктовое эмбарго – это абсолютно легальный рыночный механизм, который позволяет двигаться вперед любому сектору экономики. Если ты живешь именно в этой стране, ты должен отстаивать интересы своих производителей, то есть делать все для развития собственной экономики, а не вкладываться в чужую. Мы же видим сейчас своими глазами, как изменилась работа, как изменилась прибыльность наших предприятий. Эта мера позволила сделать мощнейший толчок в целом по стране в развитии отрасли.
- Я не вижу, чтобы вдруг случился бешеный ажиотаж и все побежали выращивать крупный рогатый скот.
- Молочное и мясное животноводство среди всех отраслей сельского хозяйства являются самыми капиталоемкими и самыми длительными по периоду окупаемости, поэтому привлечь инвестиции в эту отрасль – самая сложная задача.
- Прошло шесть лет.
- Да, но это только начало. Почему в свое время срок для инвестиционных кредитов был установлен 8 лет? Как раз этот период – 8-9 лет – является периодом окупаемости любого проекта по разведению крупного рогатого скота, что в молоке, что в мясе.
- У нас есть тому удачные примеры?
- Есть. В большей степени как раз отозвались малые формы хозяйствования. В свое время, когда такие крупные холдинги, как «Ситно» и «Ариант», закрыли у себя мясное скотоводство и перевели свою экономику на развитие традиционных отраслей, свиноводства и птицеводства, мы понесли ощутимые потери. Но тот объем мяса, который мы потеряли от крупного рогатого скота, они в 16 раз перекрыли по птице и по свинине.
То есть определенный экономический эффект мы от этого получили. Потери товарного стада крупного рогатого скота в холдингах мы смогли компенсировать за счет роста поголовья в личных подсобных хозяйствах. Люди стали брать гранты на увеличение поголовья, а племенную базу мы полностью сохранили. И это качественный показатель, который позволяет нам двигаться вперед.
- А сколько у нас сейчас голов молочного и сколько мясного скота?
- В сельхозорганизациях 33 тысячи – молочного и порядка 21 тысячи – мясного.
- На сколько процентов мы себя обеспечиваем?
- По мясу крупного рогатого скота обеспеченность сопоставима с молоком, она держится на уровне 50%. По свинине и птице мы троекратно превысили потребности региона. Кормим других. Общий объем производства мяса всех видов – 540 тысяч тонн. Из них 345 тысяч приходится на птицу, 152 тысячи – это свиноводство. И порядка 40 тысяч – крупный рогатый скот.
В прошлом году у нас был небольшой провал по птицеводству. Он был связан в том числе с экономической конъюнктурой, потому что ценник на птицу в начале 2018 года очень упал. Соответственно, предприятия адаптировались, сосредотачивались на экономике, уменьшали посадку птицы. Это привело к уменьшению объемов. Но финансовая устойчивость компаний не пострадала. Достигнув порога экономической целесообразности роста производства, мы пока смотрим, как будет развиваться в том числе движение по
экспорту. При нахождении гарантированного рынка сбыта, естественно, появятся все возможности для того, чтобы повысить объемы производства.
- И рентабельность, очевидно? Я правильно понимаю, если мы начнем продавать в Китай, то мы это будем делать дороже, чем на местном рынке?
- В противном случае нет никакого смысла этим заниматься. И сейчас уже на основании тех разрешений и допусков, которые есть у наших птицеводов, ассортимент и линейка продукции, которую они отправляют на экспорт, постепенно растет.
- На каком месте в России мы находимся по производству мяса птицы, а на каком по производству свинины?
- По свинине – 6-7-е. По птице – 2-3-е. Это меняющийся показатель, мы постоянно в борьбе)
- С какой областью соревнуемся?
- Мы точно никогда не догоним Белгород, они первые и по птице, и по свинине с показателем более одного миллиона тонн. Получается, мы конкурируем в основном с Курском – они ведущие по свинине.
- А каковы площади посевных?
- Общая посевная у нас – 1 миллион 940 тысяч гектаров, 1 миллион 408 тысяч из них под зерновыми. Ещё мы возделываем 211 тысяч гектаров масличных культур, 284 тысячи гектаров – кормовых культур. Зерна мы производим недостаточно в связи с высокой развитостью птицеводства и свиноводства, потребностью
в кормах, нам приходится закупать его в других регионах.
- Как вы относитесь к тому, что время от времени вспыхивают скандалы с превышением уровня антибиотиков в мясе птицы того или иного холдинга?
- Я точно знаю, что это связано с борьбой за рынок. И не иначе. Работа контролирующих органов должна вестись по-другому. Вынос подобной информации широкой публике преследует всего одну задачу: борьбу с конкурентом.
- Но данные, которые появляются в СМИ, это правда? Или нет?
- Каждый конкретный случай нужно обсуждать отдельно на основании лабораторных исследований. Если путем экспертизы, которую провели органы государственной власти, тот же Россельхознадзор или Роспотребнадзор, установлено нарушение, то сомневаться в подлинности исследований не приходится.
Если же происходит вброс…
- Если вброс, тогда предприятиям нужно судиться и доказывать свою чистоту, они это делают?
- И судятся, и доказывают. И приглашают экспертов, и показывают, что и как на самом деле… Те случаи, о которых я знаю, были инициированы «Роскачеством», это такая организация, между нами говоря, весьма сомнительная. Чьи интересы она представляет, тоже не поймешь. Чаще всего это нечестная конкурентная борьба.
- А что делать потребителю? Я вот надолго прекратила есть курочек Андрея Николаевича после того, как узнала, что там минимум в 80 раз превышение по антибиотикам.
- Глупости. Применение схем вакцинации и поддержки антибиотиками происходит задолго до того, как производится убой. Содержание антибиотика в заявленных количествах невозможно, поскольку он разрушается и выводится из организма. Такое количество может быть, только если животное было подвергнуто обработке непосредственно перед забоем. А это бессмысленно и нелогично. Любой, кто хоть немного разбирается, знает это. А для обывателя подобные страшилки являются как раз тем самым фактором, который позволяет определиться, брать эту продукцию или нет. Не всем источникам информации можно доверять.
- Вы не читаете перед обедом советские газеты?
- Я всегда доверяю нашей продукции, поэтому беру в том числе и нашу птицу, ем ее сам и кормлю своих детей.
Выбираю по вкусовым критериям. Здесь никого выделить не могу, поскольку от умения повара тоже многое зависит.
- А по выращиванию овощей в закрытом грунте мы такие же молодцы, как и по курице?
- Да. Благодаря тому, что в конце этого года в «Усть-Катаве» будет введен агрокомплекс «Урал», мы сможем полностью обеспечить себя помидорами и огурцами.
- Всё возможно, было бы желание и был бы правильный посыл.
- 6 августа 2014 года было введено продуктовое эмбарго. Сначала на один год, потом четырежды продлевалось, в последний раз срок был установлен до 31 января 2019 года. Спустя шесть лет с момента введения как вы оцениваете эффективность данного мероприятия для развития отечественных аграриев и животноводов?
- Его надо было раньше ввести. Продуктовое эмбарго – это абсолютно легальный рыночный механизм, который позволяет двигаться вперед любому сектору экономики. Если ты живешь именно в этой стране, ты должен отстаивать интересы своих производителей, то есть делать все для развития собственной экономики, а не вкладываться в чужую. Мы же видим сейчас своими глазами, как изменилась работа, как изменилась прибыльность наших предприятий. Эта мера позволила сделать мощнейший толчок в целом по стране в развитии отрасли.
- Я не вижу, чтобы вдруг случился бешеный ажиотаж и все побежали выращивать крупный рогатый скот.
- Молочное и мясное животноводство среди всех отраслей сельского хозяйства являются самыми капиталоемкими и самыми длительными по периоду окупаемости, поэтому привлечь инвестиции в эту отрасль – самая сложная задача.
- Прошло шесть лет.
- Да, но это только начало. Почему в свое время срок для инвестиционных кредитов был установлен 8 лет? Как раз этот период – 8-9 лет – является периодом окупаемости любого проекта по разведению крупного рогатого скота, что в молоке, что в мясе.
- У нас есть тому удачные примеры?
- Есть. В большей степени как раз отозвались малые формы хозяйствования. В свое время, когда такие крупные холдинги, как «Ситно» и «Ариант», закрыли у себя мясное скотоводство и перевели свою экономику на развитие традиционных отраслей, свиноводства и птицеводства, мы понесли ощутимые потери. Но тот объем мяса, который мы потеряли от крупного рогатого скота, они в 16 раз перекрыли по птице и по свинине.
То есть определенный экономический эффект мы от этого получили. Потери товарного стада крупного рогатого скота в холдингах мы смогли компенсировать за счет роста поголовья в личных подсобных хозяйствах. Люди стали брать гранты на увеличение поголовья, а племенную базу мы полностью сохранили. И это качественный показатель, который позволяет нам двигаться вперед.
- А сколько у нас сейчас голов молочного и сколько мясного скота?
- В сельхозорганизациях 33 тысячи – молочного и порядка 21 тысячи – мясного.
- На сколько процентов мы себя обеспечиваем?
- По мясу крупного рогатого скота обеспеченность сопоставима с молоком, она держится на уровне 50%. По свинине и птице мы троекратно превысили потребности региона. Кормим других. Общий объем производства мяса всех видов – 540 тысяч тонн. Из них 345 тысяч приходится на птицу, 152 тысячи – это свиноводство. И порядка 40 тысяч – крупный рогатый скот.
В прошлом году у нас был небольшой провал по птицеводству. Он был связан в том числе с экономической конъюнктурой, потому что ценник на птицу в начале 2018 года очень упал. Соответственно, предприятия адаптировались, сосредотачивались на экономике, уменьшали посадку птицы. Это привело к уменьшению объемов. Но финансовая устойчивость компаний не пострадала. Достигнув порога экономической целесообразности роста производства, мы пока смотрим, как будет развиваться в том числе движение по
экспорту. При нахождении гарантированного рынка сбыта, естественно, появятся все возможности для того, чтобы повысить объемы производства.
- И рентабельность, очевидно? Я правильно понимаю, если мы начнем продавать в Китай, то мы это будем делать дороже, чем на местном рынке?
- В противном случае нет никакого смысла этим заниматься. И сейчас уже на основании тех разрешений и допусков, которые есть у наших птицеводов, ассортимент и линейка продукции, которую они отправляют на экспорт, постепенно растет.
- На каком месте в России мы находимся по производству мяса птицы, а на каком по производству свинины?
- По свинине – 6-7-е. По птице – 2-3-е. Это меняющийся показатель, мы постоянно в борьбе)
- С какой областью соревнуемся?
- Мы точно никогда не догоним Белгород, они первые и по птице, и по свинине с показателем более одного миллиона тонн. Получается, мы конкурируем в основном с Курском – они ведущие по свинине.
- А каковы площади посевных?
- Общая посевная у нас – 1 миллион 940 тысяч гектаров, 1 миллион 408 тысяч из них под зерновыми. Ещё мы возделываем 211 тысяч гектаров масличных культур, 284 тысячи гектаров – кормовых культур. Зерна мы производим недостаточно в связи с высокой развитостью птицеводства и свиноводства, потребностью
в кормах, нам приходится закупать его в других регионах.
- Как вы относитесь к тому, что время от времени вспыхивают скандалы с превышением уровня антибиотиков в мясе птицы того или иного холдинга?
- Я точно знаю, что это связано с борьбой за рынок. И не иначе. Работа контролирующих органов должна вестись по-другому. Вынос подобной информации широкой публике преследует всего одну задачу: борьбу с конкурентом.
- Но данные, которые появляются в СМИ, это правда? Или нет?
- Каждый конкретный случай нужно обсуждать отдельно на основании лабораторных исследований. Если путем экспертизы, которую провели органы государственной власти, тот же Россельхознадзор или Роспотребнадзор, установлено нарушение, то сомневаться в подлинности исследований не приходится.
Если же происходит вброс…
- Если вброс, тогда предприятиям нужно судиться и доказывать свою чистоту, они это делают?
- И судятся, и доказывают. И приглашают экспертов, и показывают, что и как на самом деле… Те случаи, о которых я знаю, были инициированы «Роскачеством», это такая организация, между нами говоря, весьма сомнительная. Чьи интересы она представляет, тоже не поймешь. Чаще всего это нечестная конкурентная борьба.
- А что делать потребителю? Я вот надолго прекратила есть курочек Андрея Николаевича после того, как узнала, что там минимум в 80 раз превышение по антибиотикам.
- Глупости. Применение схем вакцинации и поддержки антибиотиками происходит задолго до того, как производится убой. Содержание антибиотика в заявленных количествах невозможно, поскольку он разрушается и выводится из организма. Такое количество может быть, только если животное было подвергнуто обработке непосредственно перед забоем. А это бессмысленно и нелогично. Любой, кто хоть немного разбирается, знает это. А для обывателя подобные страшилки являются как раз тем самым фактором, который позволяет определиться, брать эту продукцию или нет. Не всем источникам информации можно доверять.
- Вы не читаете перед обедом советские газеты?
- Я всегда доверяю нашей продукции, поэтому беру в том числе и нашу птицу, ем ее сам и кормлю своих детей.
Выбираю по вкусовым критериям. Здесь никого выделить не могу, поскольку от умения повара тоже многое зависит.
- А по выращиванию овощей в закрытом грунте мы такие же молодцы, как и по курице?
- Да. Благодаря тому, что в конце этого года в «Усть-Катаве» будет введен агрокомплекс «Урал», мы сможем полностью обеспечить себя помидорами и огурцами.
“
ДОЛГИЕ ГОДЫ МЫ ИЗМЕРЯЛИ УСПЕХ КОЛИЧЕСТВОМ УРОЖАЯ. НАМ БЫЛ НУЖЕН ОБЪЕМ: БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ. И НИКТО НЕ ГОВОРИЛ О ТОМ, КАК ЭТО БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ. ТЕПЕРЬ МЫ ПРИШЛИ К ТОМУ, ЧТО БОЛЬШЕ, ВОЗМОЖНО, И НЕ НУЖНО. НУЖЕН БАЛАНС, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЫНОК.
- С уходом Владимира Васильевича Степанова научные работы по косточковым культурам продолжаются?
- Да, работы продолжаются. У нас действительно поначалу было много переживаний по поводу существования
предприятия. Но сейчас мы видим, что преемники не менее щепетильно относятся к успехам и достижениям, которые были. Возможно, они находят несколько иные способы решения проблем и задач. Тем не менее, они горды своим производством, и я уверен, что предприятие будет жить.
- Если верить статистике, жители Челябинской области едят рыбы в 4,5 раза меньше, чем это рекомендовано ВОЗ. Есть ли у нас сильные рыбоводческие хозяйства? Сколько рыбы они нам дают? И сколько нам надо еще?
- Да, у нас есть сильные игроки. Основная тройка сильнейших: Кыштымское рыболовное хозяйство, рыбзавод
«Балык», «Челябрыбхоз». Объем вылова по прошлому году составил 4,9 тысячи тонн. До медицинской нормы
мы, естественно, недотягиваем, и нужно еще очень много. Частично покрываем этот дефицит за счёт ввоза. Что касается местного производства, то необходимо буквально в 5-10 раз увеличить этот объем. Пока об этом приходится только мечтать. Единственно верный путь к этой мечте – развитие не пастбищного рыболовства, которое является экстенсивным даже при учёте использования отдельных современных технологий, а интенсивных видов. С учетом того, что существует очень много видов водопользования, производители
рыбы попадают в тиски законодательных ограничений. Поэтому будем искать проекты, похожие на «Бионику», с установками замкнутого водоснабжения. К чему в свое время пришли китайцы и в результате стали мировыми лидерами по производству рыбы. Кто мешает нам?
В Челябинской области 3748 озер, более 200 из них зарыбляются согласно договорам пользования. И рыбаку-любителю интересней порыбачить на водоеме, который зарыбляется, нежели ловить окуней да ротанов на всех остальных. Мы ждем 1 января 2020 года, когда вступит в силу закон, в котором эти спорные моменты будут ликвидированы. Пока их много, и это заметно тормозит развитие отрасли.
- Можете назвать лидеров в каждом из сегментов сельского хозяйства?
- Нет, лидеров называть не буду) Хотя я их, конечно, знаю. Не хочу перехвалить.
- Охарактеризуйте несколькими словами инвестиционную политику в аграрном секторе.
- Мы ждем инвесторов, мы им рады. После того, как они будут к нам приходить, мы будем делать все для того,
чтобы они у нас остались и эффективно работали.
- Какие плюшки вы им предлагаете?
- Государственные гарантии, субсидии, которые есть у нас в областном бюджете.
- Они больше, чем в других областях?
- Ни одна другая отрасль экономики сегодня не получает такой поддержки в виде компенсации затрат. Сравнивать сложно, потому что сельское хозяйство априори дотационное. В этом заключается государственная политика: ответственность перед населением за продовольственную безопасность и перед
страной – за национальную. В вопросах продовольствия мы не должны зависеть от других.
- Если говорить вне контекста экономической нестабильности, что мешает эффективной работе больше всего?
- Да много чего мешает. Есть объективные риски. Ты можешь работать не покладая рук, правильно вкладывать ресурсы, кормить, поить скотину, ухаживать за ней, даже получить от нее теленка, а потом на самом последнем
этапе, когда ты приготовился получать продукцию, оператор машинного доения не снимет вовремя аппарат, что приведет к маститу, к заболеванию, и потере всего, что было вложено в предыдущий период. Человеческий фактор определяет эффективность: и положительную, и отрицательную. Все остальное преодолимо. Ну и природа дает иногда о себе знать, от нее мы никуда не уйдем. Поэтому нужно готовить кадры и предусматривать страховую поддержку либо компенсацию потерь.
- Какие задачи поставлены перед отраслью на ближайшее будущее?
- Наша задача – сохранить объемы производства, продолжить диверсификацию как в животноводстве, так и
в растениеводстве. Идем по пути поиска новых культур, новых возможностей.
- Чего ждете от нового губернатора?
- Жду того, чего ждал всегда. Сельское хозяйство заслуживает внимания. Хотелось бы, чтобы оно было более
пристальным. Многие утрируют, говоря, что сельчане только и делают, что требуют для себя денег. Это не так.
Сельское хозяйство – самая благодарная отрасль. И я очень рад, что связан именно с ней. Более доброй, душевной, более наполненной смыслом отрасли нет. Поэтому я жду, что все проникнутся этой темой, поскольку наши возможности в сельском хозяйстве неограниченны. Можно рассматривать разные
направления, как в развитии производства традиционного, так и нетрадиционного. Самое главное, чтобы было желание сделать жизнь лучше. Сейчас в силу вступила новая программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как раз с ней связано много надежд. Я жду, что помимо нашего постоянного желания увеличивать поддержку для сельхозтоваропроизводителей появится адресная помощь людям, которые живут и работают на селе. Соответственно, многие квалифицированные специалисты вернутся с вахт в родные села, деревни и будут спокойно жить, работать, созидать, возделывать землю, кормить и учить своих детей. Ну
и, соответственно, это станет основой для роста населения и роста качества нашей с вами жизни.
- Спасибо. ///
- Да, работы продолжаются. У нас действительно поначалу было много переживаний по поводу существования
предприятия. Но сейчас мы видим, что преемники не менее щепетильно относятся к успехам и достижениям, которые были. Возможно, они находят несколько иные способы решения проблем и задач. Тем не менее, они горды своим производством, и я уверен, что предприятие будет жить.
- Если верить статистике, жители Челябинской области едят рыбы в 4,5 раза меньше, чем это рекомендовано ВОЗ. Есть ли у нас сильные рыбоводческие хозяйства? Сколько рыбы они нам дают? И сколько нам надо еще?
- Да, у нас есть сильные игроки. Основная тройка сильнейших: Кыштымское рыболовное хозяйство, рыбзавод
«Балык», «Челябрыбхоз». Объем вылова по прошлому году составил 4,9 тысячи тонн. До медицинской нормы
мы, естественно, недотягиваем, и нужно еще очень много. Частично покрываем этот дефицит за счёт ввоза. Что касается местного производства, то необходимо буквально в 5-10 раз увеличить этот объем. Пока об этом приходится только мечтать. Единственно верный путь к этой мечте – развитие не пастбищного рыболовства, которое является экстенсивным даже при учёте использования отдельных современных технологий, а интенсивных видов. С учетом того, что существует очень много видов водопользования, производители
рыбы попадают в тиски законодательных ограничений. Поэтому будем искать проекты, похожие на «Бионику», с установками замкнутого водоснабжения. К чему в свое время пришли китайцы и в результате стали мировыми лидерами по производству рыбы. Кто мешает нам?
В Челябинской области 3748 озер, более 200 из них зарыбляются согласно договорам пользования. И рыбаку-любителю интересней порыбачить на водоеме, который зарыбляется, нежели ловить окуней да ротанов на всех остальных. Мы ждем 1 января 2020 года, когда вступит в силу закон, в котором эти спорные моменты будут ликвидированы. Пока их много, и это заметно тормозит развитие отрасли.
- Можете назвать лидеров в каждом из сегментов сельского хозяйства?
- Нет, лидеров называть не буду) Хотя я их, конечно, знаю. Не хочу перехвалить.
- Охарактеризуйте несколькими словами инвестиционную политику в аграрном секторе.
- Мы ждем инвесторов, мы им рады. После того, как они будут к нам приходить, мы будем делать все для того,
чтобы они у нас остались и эффективно работали.
- Какие плюшки вы им предлагаете?
- Государственные гарантии, субсидии, которые есть у нас в областном бюджете.
- Они больше, чем в других областях?
- Ни одна другая отрасль экономики сегодня не получает такой поддержки в виде компенсации затрат. Сравнивать сложно, потому что сельское хозяйство априори дотационное. В этом заключается государственная политика: ответственность перед населением за продовольственную безопасность и перед
страной – за национальную. В вопросах продовольствия мы не должны зависеть от других.
- Если говорить вне контекста экономической нестабильности, что мешает эффективной работе больше всего?
- Да много чего мешает. Есть объективные риски. Ты можешь работать не покладая рук, правильно вкладывать ресурсы, кормить, поить скотину, ухаживать за ней, даже получить от нее теленка, а потом на самом последнем
этапе, когда ты приготовился получать продукцию, оператор машинного доения не снимет вовремя аппарат, что приведет к маститу, к заболеванию, и потере всего, что было вложено в предыдущий период. Человеческий фактор определяет эффективность: и положительную, и отрицательную. Все остальное преодолимо. Ну и природа дает иногда о себе знать, от нее мы никуда не уйдем. Поэтому нужно готовить кадры и предусматривать страховую поддержку либо компенсацию потерь.
- Какие задачи поставлены перед отраслью на ближайшее будущее?
- Наша задача – сохранить объемы производства, продолжить диверсификацию как в животноводстве, так и
в растениеводстве. Идем по пути поиска новых культур, новых возможностей.
- Чего ждете от нового губернатора?
- Жду того, чего ждал всегда. Сельское хозяйство заслуживает внимания. Хотелось бы, чтобы оно было более
пристальным. Многие утрируют, говоря, что сельчане только и делают, что требуют для себя денег. Это не так.
Сельское хозяйство – самая благодарная отрасль. И я очень рад, что связан именно с ней. Более доброй, душевной, более наполненной смыслом отрасли нет. Поэтому я жду, что все проникнутся этой темой, поскольку наши возможности в сельском хозяйстве неограниченны. Можно рассматривать разные
направления, как в развитии производства традиционного, так и нетрадиционного. Самое главное, чтобы было желание сделать жизнь лучше. Сейчас в силу вступила новая программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как раз с ней связано много надежд. Я жду, что помимо нашего постоянного желания увеличивать поддержку для сельхозтоваропроизводителей появится адресная помощь людям, которые живут и работают на селе. Соответственно, многие квалифицированные специалисты вернутся с вахт в родные села, деревни и будут спокойно жить, работать, созидать, возделывать землю, кормить и учить своих детей. Ну
и, соответственно, это станет основой для роста населения и роста качества нашей с вами жизни.
- Спасибо. ///
Текст: Елена Тельпиз
Фото: Юлия Пичугина, Иван Карлышев
Фото: Юлия Пичугина, Иван Карлышев
Follow on Facebook
