Текст: Дарья Ильиных
Фото: Иван Карлышев
Фото: Иван Карлышев
В 45 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Цифровая реальность с автоматизацией процессов, управлением данными и «умными» технологиями подкрадывается незаметно и неумолимо. Уже сейчас Министерство образования и науки России утвердило индивидуальную программу трансформации для ЧелГУ, в рамках которой будет создано единое информационное пространство на базе цифровых сервисов и искусственного интеллекта. Это шаг в ближайшее будущее, а на более дальнюю перспективу у Сергея Таскаева есть свой план. В преддверии 45-летнего юбилея мы встретились, чтобы узнать, чем живет и дышит один из основных вузов региона.
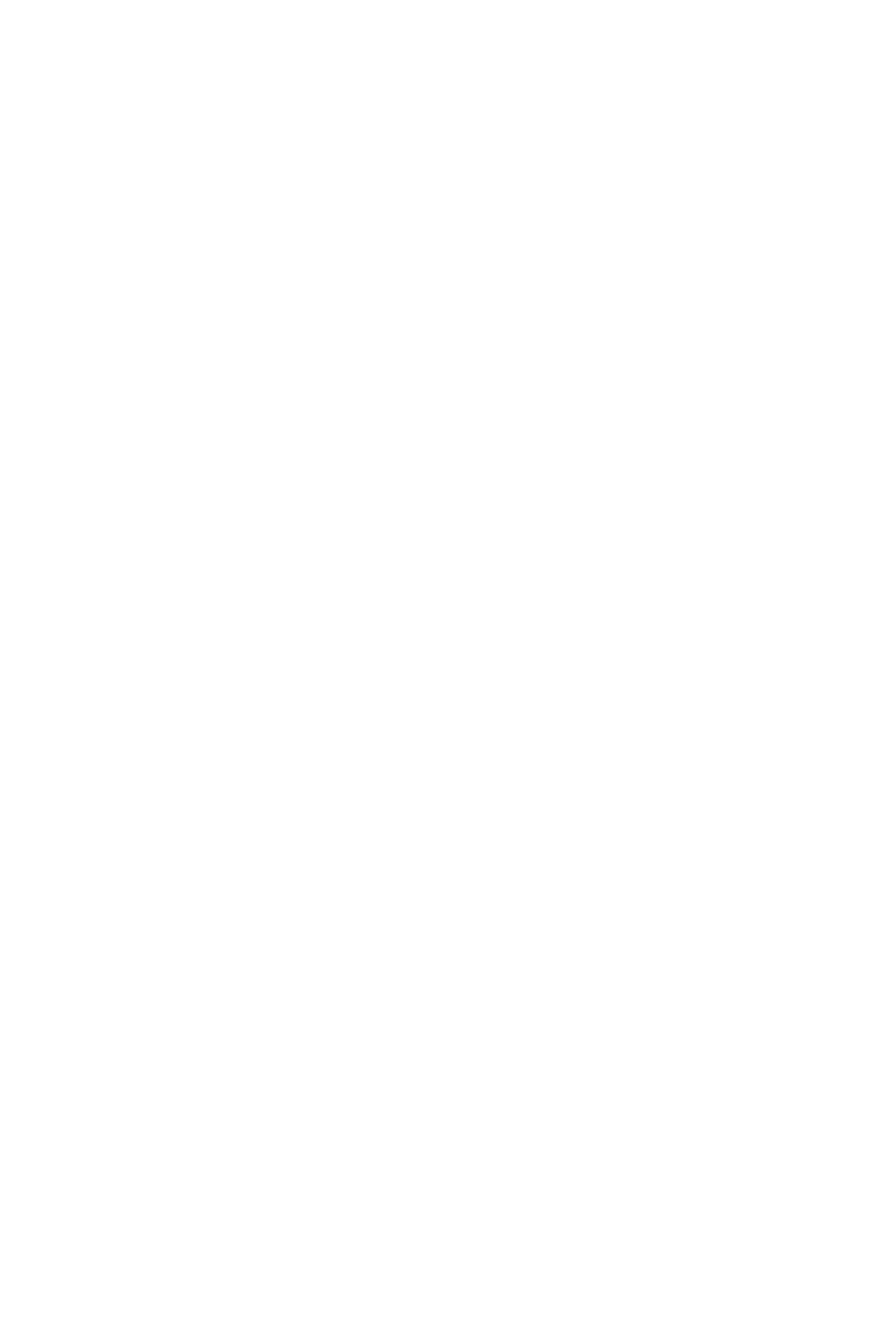
- В ЧелГУ можно прийти в любом возрасте и найти здесь занятие по душе, решить проблемы, которые стоят перед вами в моменте.
- Академическая свобода для воспитания не просто специалиста, а личности зародилась в ЧелГУ с первых дней – благодаря людям, которые наш университет «начинали». Молодые, свободные, успешные, они создали университет нового типа.
- Если вы хотите достойную, высокооплачиваемую работу в будущем, обратите внимание именно
на фундаментальные направления подготовки.
Там сейчас будет прорывной скачок. - За пять лет мы привлечем
в Челябинскую область огромный инвестиционный капитал, измеряемый десятками миллиардов рублей. Первые десять миллиардов уже есть – самый сложный шаг мы уже сделали.
– У вас на календаре слоган: «Больше чем вуз». Что это значит?
– Именно это: ЧелГУ – не только про образование и науку. Мы создаем среду, из которой не хочется выходить.
Во-первых, мы даем возможность непрерывного обучения. В ЧелГУ можно прийти в любом возрасте и найти здесь занятие по душе, решить проблемы, которые стоят перед вами в моменте. Самых юных слушателей мы обучаем в Детском университете, любителей популярной науки ждем в Воскресном. У нас создана система дополнительного образования, есть краткосрочные курсы, реализуются программы дополнительного профессионального образования. Мы провели перезагрузку института повышения квалификации и переподготовки кадров, посмотрели, какое количество программ у нас сформировано, – это просто потрясающе: начиная с различных языков, юриспруденции, менеджмента и заканчивая госзакупками. По обращениям организаций, ведомств и учреждений мы можем организовывать целевые группы для обучения только их сотрудников.
Не хочешь учиться – приходи за советом в бесплатную юридическую клинику, поправляй здоровье в профилактории, гуляй в ботаническом саду, бери на обед пиццу от нашего шеф-повара – кстати, мы и на доставку работаем. Зачем выходить из вуза, если здесь комфортно и интересно?
А во-вторых, ЧелГУ – это университет с душой. Слышал это не единожды и сам так считаю. Несмотря на жесткое регулирование, характерное для государственных вузов, мы стараемся максимально избегать формализма в общении и воспитании. И речь не о панибратстве между профессором и студентом. Отношения должны строиться на доверии, взаимопонимании и поддержке, и зачастую нам удается такой формат. Мы постоянно находимся в диалоге друг с другом. Не могу сказать, как мы этого добились. Так сложилось исторически: подобная академическая свобода для воспитания не просто специалиста, а личности зародилась в ЧелГУ с первых дней благодаря людям, которые наш университет «начинали». Сорок пять лет назад сюда съехались представители лучших научных школ Советского Союза: из МГУ, НГУ, ТГУ, СПбГУ, КазГУ и других вузов. Молодые, свободные, успешные, они создали университет нового типа.
На днях в нашем издательстве вышла книга – сборник интервью профессоров. И там один из них, Андрей Витальевич Мельников, стоявший у истоков нашего института информационных технологий, говорит: «Чем мне нравится ЧелГУ, так это тем, что он готов экспериментировать». Вот эта готовность рискнуть, попробовать новое – она свойственна живому организму, а не бездушной организации, пусть и высшего образования. Согласитесь, такая атмосфера затягивает.
– Можно ли утверждать, что вы достигли идеала?
– Сказать так очень соблазнительно, но я не могу. Признать, что ты достиг совершенства, означает остановиться в развитии. А реалии высшей школы меняются стремительно, и вузу необходимо успевать за ними, а еще лучше – опережать. Для этого нужны серьезные ресурсы: и финансовые, и кадровые, и временные.
И потом, как у любого государственного университета, у нас есть проблемы, и было бы самонадеянно с моей стороны не признать их. Одна из них – регламенты работы, которые сковывают нас в упрощении многих процессов.
Например, в Техническом университете Мюнхена круглосуточно доступны не только питание и студенческий досуг, но и работают службы технического обеспечения. И если вы проводите научные исследования и вам для эксперимента надо 12 граммов золота в 12 часов ночи, вы просто идете и берете 12 граммов золота. Просто пишете: «Сергей Валерьевич Таскаев взял золота 12 граммов для проекта такого-то». И все.
– А в ЧелГУ так нельзя?
– Нет, потому что мы живем в зоне действия российского законодательства и отечественных реалий. Но в целом к подобной организации жизни и научных исследований мы стремимся.
– А что у вас есть необычного, если не золото?
– У нас есть, например, очень необычные метеориты. Они состоят ровно из того же вещества, из которого складывалась наша планета Земля на ранних этапах своей эволюции. Это протоматерия, которая осталась после взрыва сверхновой звезды. Спроси у любого: «Можно потрогать звезду?» Все скажут: «Нет». А я вам сейчас дам ее потрогать – в виде метеорита. Вот, смотрите, это было когда-то внутренней частью сверхновой звезды, взорвавшейся где-то в окрестностях Солнечной системы. Это фрагмент метеорита, который приземлился в Аризоне 50 000 лет назад. Кусок был размером примерно с 16-этажный дом и весил в районе 300 000 тонн, от него остался кратер диаметром 1 200 метров.
– Как он у вас оказался?
– Нашел прямо в Аризоне. Специально ездил туда три раза.
– С чем связан ваш интерес к этой теме?
– В первую очередь он профессиональный. После падения челябинского метеорита именно ученые ЧелГУ собирали этот материал в окрестностях озера Чебаркуль, и именно мы занимаемся его изучением уже восемь лет. Не так давно нашли в нем необычные углеродные кристаллы, которых не наблюдали раньше в природе и которые классифицировали как алмаз. Однако земные алмазы не имеют таких граней, скорее они присущи лонсдейлиту – материалу, который впервые обнаружили в аризонском метеорите. Пришлось ехать в Америку, чтобы найти этот метеорит, и сравнить наши находки. С лонсдейлитом наш углерод не совпал, мы нашли что-то совершенно новое.
– Студентов подключали к своим исследованиям?
– Обязательно. Например, в них принимала участие моя аспирантка Галина Савостеенко, которая сейчас заканчивает работу над диссертацией. Свои доклады о составе пыли челябинского суперболида она представляла на международных и всероссийских молодежных конференциях, публикуется в международных научных журналах. Ее работу оценило не только научное сообщество, но и наш губернатор Алексей Текслер: в марте она была приглашена в правительство Челябинской области на прием, посвященный женщинам в южноуральской науке.
Нередко к научному процессу привлекаются и магистранты. Это очень органично для университета, потому что образование в нем должно проходить через науку. Иногда специально для работы над проектом формируются целые молодежные коллективы. В прошлом году миллионный грант Российского фонда фундаментальных исследований выиграл профессор кафедры политических наук и международных отношений Андрей Пасс. Вместе со студентами историко-филологического факультета он изучал восприятие образа и личности политика в социальных сетях и мессенджерах. Согласитесь, такие темы для молодых исследователей очень занимательны. Они анализировали аккаунты Сергея Собянина, Дональда Трампа, Алексея Текслера и других политиков и этим летом представили очень интересные результаты.
Скажу вам больше: в этой работе участвовали и школьники – учащиеся челябинского лицея № 11.
– То есть вы готовите себе кадры со школьной скамьи?
А без этого никак: нам необходимо взаимодействовать со школами не только для того, чтобы обеспечить себе набор, но и для повышения уровня подготовки ребят.
В ЧелГУ профориентационная система сложилась много лет назад, и сейчас она очень развита. Мы работаем с детьми, начиная с первого класса, когда родители приводят их на лекции университетских ученых, на праздники и мастер-классы. Хороший охват у нас в среднем и старшем звене, и это не только зарекомендовавшие себя проекты типа Малой академии или Малой универсиады, но и тематические школы и летние лагеря, которые ежегодно организуют факультеты. У лингвистов они языковые, психологи помогают с выбором профессии, биологи и экологи проводят интенсивы по естественно-научным направлениям.
Интересный опыт мы получили в прошлом году, когда пандемия сделала невозможной привычную нам очную работу с подрастающим поколением. Но ничего, справились, увеличили охваты в YouTube, количество стримов в соцсетях, и общение со школьниками вышло на новый уровень.
К студенческой жизни их готовит центр довузовской подготовки. Должен констатировать, что ЧелГУ – единственный в Челябинске вуз, который использует тестовый комплекс «Профориентатор», разработанным командой психологов МГУ. Старшеклассников готовят к ОГЭ и ЕГЭ опытные преподаватели, хорошо знающие структуру экзаменов и все подводные камни. Ну и наши олимпиады, которые попали в перечни, утвержденные Минобрнауки и Минпросвещения, – это очень хорошее подспорье для школьников, потому что в перспективе их участники получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
– Именно это: ЧелГУ – не только про образование и науку. Мы создаем среду, из которой не хочется выходить.
Во-первых, мы даем возможность непрерывного обучения. В ЧелГУ можно прийти в любом возрасте и найти здесь занятие по душе, решить проблемы, которые стоят перед вами в моменте. Самых юных слушателей мы обучаем в Детском университете, любителей популярной науки ждем в Воскресном. У нас создана система дополнительного образования, есть краткосрочные курсы, реализуются программы дополнительного профессионального образования. Мы провели перезагрузку института повышения квалификации и переподготовки кадров, посмотрели, какое количество программ у нас сформировано, – это просто потрясающе: начиная с различных языков, юриспруденции, менеджмента и заканчивая госзакупками. По обращениям организаций, ведомств и учреждений мы можем организовывать целевые группы для обучения только их сотрудников.
Не хочешь учиться – приходи за советом в бесплатную юридическую клинику, поправляй здоровье в профилактории, гуляй в ботаническом саду, бери на обед пиццу от нашего шеф-повара – кстати, мы и на доставку работаем. Зачем выходить из вуза, если здесь комфортно и интересно?
А во-вторых, ЧелГУ – это университет с душой. Слышал это не единожды и сам так считаю. Несмотря на жесткое регулирование, характерное для государственных вузов, мы стараемся максимально избегать формализма в общении и воспитании. И речь не о панибратстве между профессором и студентом. Отношения должны строиться на доверии, взаимопонимании и поддержке, и зачастую нам удается такой формат. Мы постоянно находимся в диалоге друг с другом. Не могу сказать, как мы этого добились. Так сложилось исторически: подобная академическая свобода для воспитания не просто специалиста, а личности зародилась в ЧелГУ с первых дней благодаря людям, которые наш университет «начинали». Сорок пять лет назад сюда съехались представители лучших научных школ Советского Союза: из МГУ, НГУ, ТГУ, СПбГУ, КазГУ и других вузов. Молодые, свободные, успешные, они создали университет нового типа.
На днях в нашем издательстве вышла книга – сборник интервью профессоров. И там один из них, Андрей Витальевич Мельников, стоявший у истоков нашего института информационных технологий, говорит: «Чем мне нравится ЧелГУ, так это тем, что он готов экспериментировать». Вот эта готовность рискнуть, попробовать новое – она свойственна живому организму, а не бездушной организации, пусть и высшего образования. Согласитесь, такая атмосфера затягивает.
– Можно ли утверждать, что вы достигли идеала?
– Сказать так очень соблазнительно, но я не могу. Признать, что ты достиг совершенства, означает остановиться в развитии. А реалии высшей школы меняются стремительно, и вузу необходимо успевать за ними, а еще лучше – опережать. Для этого нужны серьезные ресурсы: и финансовые, и кадровые, и временные.
И потом, как у любого государственного университета, у нас есть проблемы, и было бы самонадеянно с моей стороны не признать их. Одна из них – регламенты работы, которые сковывают нас в упрощении многих процессов.
Например, в Техническом университете Мюнхена круглосуточно доступны не только питание и студенческий досуг, но и работают службы технического обеспечения. И если вы проводите научные исследования и вам для эксперимента надо 12 граммов золота в 12 часов ночи, вы просто идете и берете 12 граммов золота. Просто пишете: «Сергей Валерьевич Таскаев взял золота 12 граммов для проекта такого-то». И все.
– А в ЧелГУ так нельзя?
– Нет, потому что мы живем в зоне действия российского законодательства и отечественных реалий. Но в целом к подобной организации жизни и научных исследований мы стремимся.
– А что у вас есть необычного, если не золото?
– У нас есть, например, очень необычные метеориты. Они состоят ровно из того же вещества, из которого складывалась наша планета Земля на ранних этапах своей эволюции. Это протоматерия, которая осталась после взрыва сверхновой звезды. Спроси у любого: «Можно потрогать звезду?» Все скажут: «Нет». А я вам сейчас дам ее потрогать – в виде метеорита. Вот, смотрите, это было когда-то внутренней частью сверхновой звезды, взорвавшейся где-то в окрестностях Солнечной системы. Это фрагмент метеорита, который приземлился в Аризоне 50 000 лет назад. Кусок был размером примерно с 16-этажный дом и весил в районе 300 000 тонн, от него остался кратер диаметром 1 200 метров.
– Как он у вас оказался?
– Нашел прямо в Аризоне. Специально ездил туда три раза.
– С чем связан ваш интерес к этой теме?
– В первую очередь он профессиональный. После падения челябинского метеорита именно ученые ЧелГУ собирали этот материал в окрестностях озера Чебаркуль, и именно мы занимаемся его изучением уже восемь лет. Не так давно нашли в нем необычные углеродные кристаллы, которых не наблюдали раньше в природе и которые классифицировали как алмаз. Однако земные алмазы не имеют таких граней, скорее они присущи лонсдейлиту – материалу, который впервые обнаружили в аризонском метеорите. Пришлось ехать в Америку, чтобы найти этот метеорит, и сравнить наши находки. С лонсдейлитом наш углерод не совпал, мы нашли что-то совершенно новое.
– Студентов подключали к своим исследованиям?
– Обязательно. Например, в них принимала участие моя аспирантка Галина Савостеенко, которая сейчас заканчивает работу над диссертацией. Свои доклады о составе пыли челябинского суперболида она представляла на международных и всероссийских молодежных конференциях, публикуется в международных научных журналах. Ее работу оценило не только научное сообщество, но и наш губернатор Алексей Текслер: в марте она была приглашена в правительство Челябинской области на прием, посвященный женщинам в южноуральской науке.
Нередко к научному процессу привлекаются и магистранты. Это очень органично для университета, потому что образование в нем должно проходить через науку. Иногда специально для работы над проектом формируются целые молодежные коллективы. В прошлом году миллионный грант Российского фонда фундаментальных исследований выиграл профессор кафедры политических наук и международных отношений Андрей Пасс. Вместе со студентами историко-филологического факультета он изучал восприятие образа и личности политика в социальных сетях и мессенджерах. Согласитесь, такие темы для молодых исследователей очень занимательны. Они анализировали аккаунты Сергея Собянина, Дональда Трампа, Алексея Текслера и других политиков и этим летом представили очень интересные результаты.
Скажу вам больше: в этой работе участвовали и школьники – учащиеся челябинского лицея № 11.
– То есть вы готовите себе кадры со школьной скамьи?
А без этого никак: нам необходимо взаимодействовать со школами не только для того, чтобы обеспечить себе набор, но и для повышения уровня подготовки ребят.
В ЧелГУ профориентационная система сложилась много лет назад, и сейчас она очень развита. Мы работаем с детьми, начиная с первого класса, когда родители приводят их на лекции университетских ученых, на праздники и мастер-классы. Хороший охват у нас в среднем и старшем звене, и это не только зарекомендовавшие себя проекты типа Малой академии или Малой универсиады, но и тематические школы и летние лагеря, которые ежегодно организуют факультеты. У лингвистов они языковые, психологи помогают с выбором профессии, биологи и экологи проводят интенсивы по естественно-научным направлениям.
Интересный опыт мы получили в прошлом году, когда пандемия сделала невозможной привычную нам очную работу с подрастающим поколением. Но ничего, справились, увеличили охваты в YouTube, количество стримов в соцсетях, и общение со школьниками вышло на новый уровень.
К студенческой жизни их готовит центр довузовской подготовки. Должен констатировать, что ЧелГУ – единственный в Челябинске вуз, который использует тестовый комплекс «Профориентатор», разработанным командой психологов МГУ. Старшеклассников готовят к ОГЭ и ЕГЭ опытные преподаватели, хорошо знающие структуру экзаменов и все подводные камни. Ну и наши олимпиады, которые попали в перечни, утвержденные Минобрнауки и Минпросвещения, – это очень хорошее подспорье для школьников, потому что в перспективе их участники получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
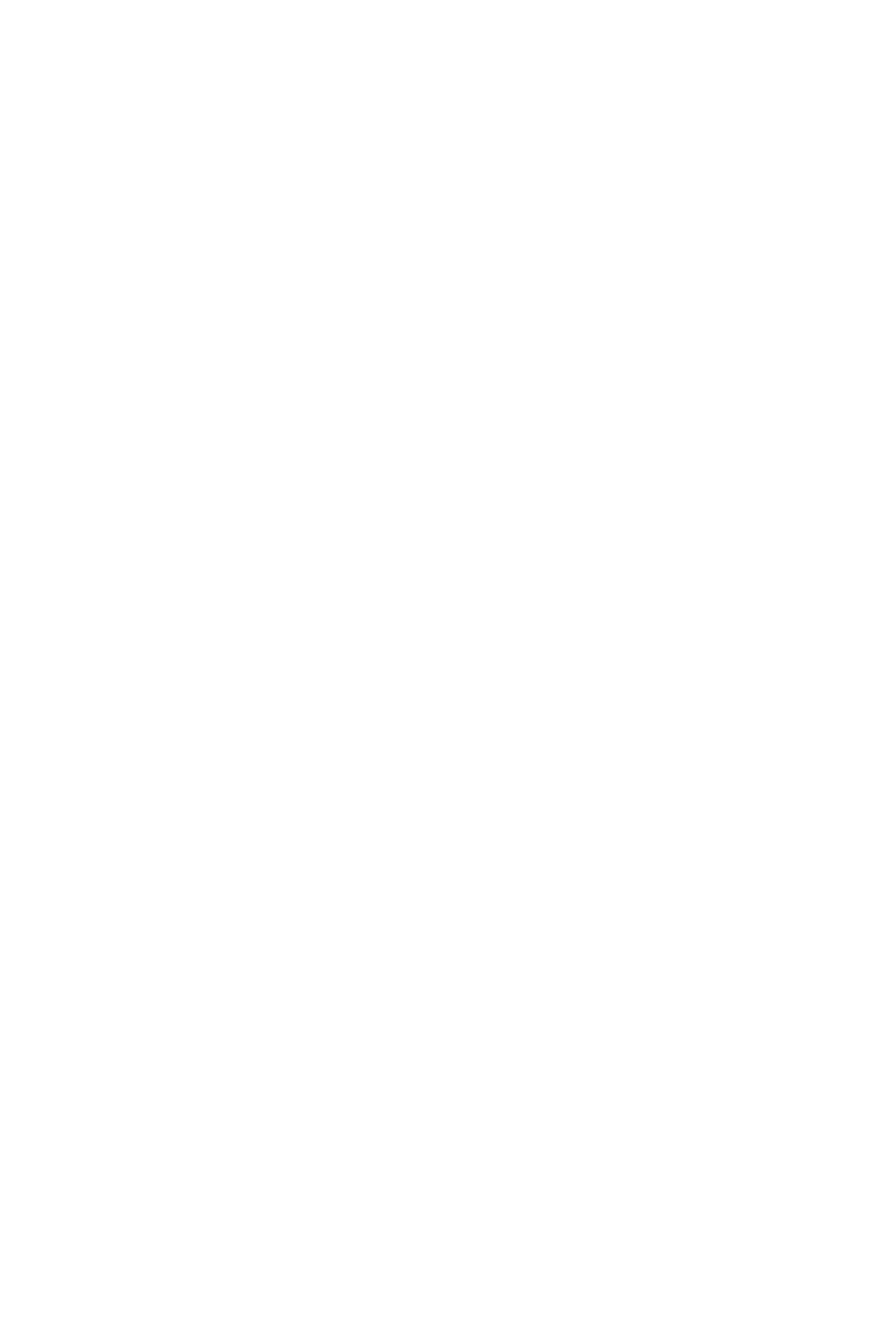
– Вернемся к науке. Когда принималось решение объявить 2021 год Годом науки и технологий, это предложение поддержали не только ученые, но и многие люди, далекие от этой сферы. Косвенно данный факт свидетельствует о том, что у россиян есть понимание глобального отставания в научном и технологическом плане. Что ждет страну, где наука до сих пор финансировалась по остаточному принципу?
– Я уже говорил о том, что поддержка научных исследований в России недостаточная. Инициативных проектов подается огромное количество, а финансирование находят единицы. Связано это с нехваткой фондов. Фундаментальная наука – это сфера, которую должно содержать государство. В противном случае у нее нет никаких перспектив, потому что промышленности – казалось бы, главному стейкхолдеру научных прорывов – это неинтересно, она никогда не будет вкладываться в фундаментальные исследования. Максимум, на что готовы предприятия, – инвестиции в решение отдельных задач конкретного производства, например по улучшению продукции, по разработке новой или по уменьшению ее себестоимости.
Такого нет, например, в развитых странах, где промышленность в первую очередь заинтересована в проведении научных исследований. Металлургические заводы создают лаборатории по разработке новых материалов, финансируют их, занимаются поиском кадров. Например, я хорошо знаю предприятие Vacuumschmelze в Германии – мощное, одно из лучших в мире. Это «белая» металлургия, где все ходят в белых халатах, производят прецизионные материалы и делают это лучше всех на свете. На этом предприятии работают выпускники Кембриджа, Королевского колледжа Лондона. Vacuumschmelze выискивает людей в системе высшего образования, которые могут создавать новую продукцию, являются экспертами в своей области. Платит им на порядок больше, чем в университетах. Да, карьера «академического» ученого с его публикационной активностью и другими задачами будет закончена, весь ваш интеллектуальный труд будет принадлежать предприятию, а оно будет в вас инвестировать и создавать абсолютно все условия, чтобы вы занимались научными исследованиями в целях конкретного предприятия. В России все не так.
– По данным РАН, доля реального сектора экономики в финансировании науки в России – около трети, остальное дает бюджет. Насколько это корректно для Челябинска?
– У нас совсем другая история: примерно 98 процентов финансирования – это бюджет, то есть фонды, государственная поддержка. Внебюджет – это деньги, направленные конкретным предприятием в рамках хоздоговора, и для нас это большая редкость.
– А как эту пирамиду перевернуть?
– В Советском Союзе, как бы мы к нему ни относились, законодательство обязывало предприятия пять процентов своей прибыли отдавать на НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняют университеты и научные институты. Тот корпус, где мы находимся, первый, построен на деньги, которые металлургические заводы платили ЧелГУ за НИОКР. Если предприятие не вкладывается в разработки – это путь в никуда, в первую очередь – для него самого. Наука развивается – промышленность развивается. Вообразите, некоторые предприятия до сих пор используют оборудование тридцатых годов. Соответственно, и продукцию производят тридцатых.
– Значит, у бизнеса нет стимулов, кроме регулирования? На Западе же не принуждают предприятия к этому, они сами вкладываются.
– У российского бизнеса, который вышел из девяностых, была сверхзадача – получить максимальную прибыль из того набора оборудования, которое есть. Вопросы модернизации не интересовали никого. Горизонт планирования был год-два. Сейчас он увеличился до трех лет, а дальше мы и не смотрим.
Но некоторые предприятия действительно развиваются по сценарию создания современного конкурентоспособного производства, в котором есть определенная доля научных исследований. Наш бизнес – он разный.
– То есть ответ на этот вопрос – в создании конкурентоспособной экономики, которая будет соперничать не административными связями, а качественным продуктом на мировом рынке?
– Да. К сожалению, сейчас административные связи дают больше, чем любые конкурентные преимущества. «Зайти» в любую корпорацию с каким-то новым продуктом – практически нерешаемый вопрос, будьте вы хоть семи пядей во лбу и с философским камнем в кармане. А если бы была конкуренция, была бы и понятная система вхождения в любой бизнес, стали бы эффективными и привлекательными стартапы.
Если мы хотим развивать науку, ее надо освободить от всех дурацких регламентов и огромной отчетности. Наука – это творчество. Заставить художника соблюдать какие-то регламенты?.. «Знаете, вот вы линию какую-то не очень прямую ведете, у нас есть ГОСТ на проведение линий…»
– Цитирую ректора МГУ Виктора Садовничего: «Каждое направление, которое изучается в университете, естественное или гуманитарное, требует сегодня элементов, связанных с искусственным интеллектом». Какие шаги в этом направлении делаете вы?
– Движемся согласно стратегии Виктора Антоновича – внедряем изучение аспектов искусственного интеллекта и его применения на разных факультетах. Например, на журфаке исследуют искусственный интеллект как технологию конструирования медиареальности в условиях социокультурных угроз общества. Другими словами, выясняют технологии создания текстов и конструирования реальности в интернете.
Однако есть в ЧелГУ несколько научных групп, которые занимаются этими вопросами много лет: математики, айтишники, радиофизики. У нас открыты лаборатория машинного обучения и интеллектуального анализа данных, лаборатория нейронных технологий и искусственного интеллекта.
Мы занимаемся обработкой больших данных и изображений, используем нейросети, решая задачи, например, по распознаванию лиц, прогнозированию возникновения дефектов в материалах, разрабатываем средства создания аудио- и видеоконтента и интеллектуальные сервисы. Ну и обучаем, конечно же, причем не только своих студентов, но и слушателей. Не раз мы организовывали Школу компьютерного зрения международной компании 3DiVi, Уральскую школу машинного обучения, основанную на курсах Open Data Science и Mail Group. Сейчас открываем совместную лабораторию с разработчиком программного обеспечения Napoleon IT, на базе которой будем проводить научно-исследовательские проекты и образовательные сессии. Недавно выиграли грант на создание образовательных программ магистратуры в области искусственного интеллекта, теперь сможем готовить специалистов, которые будут применять его для решения различного рода задач, включая медицину, биологию, филологию, например.
Бесспорно, за этим будущее. Это понимают все, поэтому сейчас в Челябинске разрабатывается глобальный проект целого центра по искусственному интеллекту, уже сейчас подготовка к нему объединила три университета – ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГМУ, а также около двадцати предприятий из IT-сферы. Его строительство планируется за городом, в L-town, мы активно ищем финансирование этого проекта, который, несомненно, станет, как говорят студенты, бомбическим. Вузы будут обеспечивать базовую подготовку в части искусственного интеллекта, программирования и прочего, а IT-компании доведут специализацию этих ребят каждая по своему направлению. В этом центре будет все необходимое на сегодня оборудование, которое позволит решать задачи реального сектора экономики, в первую очередь – Челябинской области.
Почему это важно, мы уже говорили – успех экономики зависит от успеха в науке. Специалистов по искусственному интеллекту на Южном Урале не так много, поэтому надо объединять их и «прикручивать» к ним реальный сектор, который занимается решением коммерческих задач. К тому же такой подход обеспечит трудоустройство выпускников, которые сейчас вынуждены уезжать в столицу, потому что местные рабочие места пока стоят дешевле. Так и кадры в регионе сохраним.
– Какие еще направления вам кажутся перспективными?
– Все, которые связаны с улучшением качества жизни: здоровья, благосостояния, окружающей среды.
Например, сразу несколько научных задач ставит перед нами промышленный сектор. Мир всерьез столкнулся с необходимостью уменьшения карбонового следа – это то, что образуется в результате сгорания углеводородов. Вы обращаете внимание, как стремительно изменился климат даже в Челябинске? Это не просто случайное «жаркое выдалось лето», это пришло то самое глобальное потепление, о котором мы знаем со школы. В обозримом будущем оно кардинально изменит нашу жизнь, и перед нами, университетскими учеными мира, стоит задача нивелировать эти последствия, а по возможности что-то предотвратить.
Во-первых, необходимо перестраивать технологическую базу производственного сектора: металлургии, строительства, добывающих и перерабатывающих производств. Требуются инженерные решения и предложения в области энергетики и материаловедения. Мы в ЧелГУ, столько лет развивая фундаментальную науку, неплохо в этом разбираемся. Недавно предложили предприятиям региона проект по переработке техногенных отходов, который предусматривает их преобразование в строительные материалы. Например, из отходов ЧМК и содовых производств в Башкирии может получиться строительная смесь, сопоставимая по прочности с бетонами. Или, к примеру, у нас на Урале много камня, а в Нижнем Новгороде его нет совсем. Чтобы построить дороги, можно везти щебень и гравий с Урала или с Кавказа, а можно сделать «подушку» под дорогу из техногенных отходов. За сто лет функционирования промышленности их накопилось огромное количество в самых разных регионах. Необходимо составить карту материалов и выстроить логистику.
Во-вторых, собственно экология. У ЧелГУ есть прекрасный ресурс – ботанический сад, он станет основой карбонового полигона, который мы сейчас начинаем развивать. Сад имеет в своем распоряжении целый комплекс видовой растительности, где можно изучать технологии и методы, связанные с декарбонизацией. Наши ученые могут оценить, какие виды лучше всего потребляют углекислый газ и производят кислород. Этим мы планируем заниматься и в степной зоне, на Аркаиме, где уже спроектирован филиал нашего ботсада. Проект очень перспективный, мы делаем на него ставку.
– Какую роль в этом может сыграть межуниверситетский кампус, разработка которого уже началась?
– Организационную. Кампус – это первый шаг к трансформации системы образования и науки в Челябинской области. Его необходимо наполнить оборудованием, запустить проекты по искусственному интеллекту, водородной энергетике, микробиологии и вирусологии, IT, экологическому машиностроению – и все в связке с нашими предприятиями, внимание и интерес которых тоже предстоит завоевать. Если все сложится, то за пять лет мы привлечем сюда огромный инвестиционный капитал, измеряемый десятками миллиардов рублей. Первые десять миллиардов уже есть – самый сложный шаг мы уже сделали.
– Как ЧелГУ борется с конкуренцией в лице московских и зарубежных вузов?
– Никак. Их не победить. Москва обладает высокой притягательностью. И слава богу, что для нас этот вопрос стал актуален только сейчас – города Золотого кольца с ней столкнулись еще в девяностых. Для них это была катастрофа, потому что уезжала молодежь. У нас же это произошло, когда экология стала совсем «никакая», и люди начали «голосовать ногами». Этот инертный процесс раскачался, и пока его не остановить. Чтобы это произошло, нужно создать на Южном Урале условия, которые будут для ребят достаточными, чтобы они здесь оставались. Хорошо, что сегодняшнее руководство регионом это понимает и предпринимает конкретные шаги. Инициировало строительство нашего кампуса, например.
– Почему я должна выбрать ЧелГУ?
– Кто же из нас равнодушен к классике? Мы не зря так много говорили сейчас о новых технологиях и перестройке экономики. Сделать это смогут только специалисты с фундаментальной подготовкой и междисциплинарным опытом, как в ЧелГУ. Если вам надо научиться веб-дизайну, университет вам совершенно не нужен. А вот если вы хотите получить образование в широком смысле слова, то есть сформировать мировоззрение, составить картину мира и эффективно развиваться дальше, тогда добро пожаловать в наш классический университет. Если вы хотите достойную, высокооплачиваемую работу в будущем, обратите внимание именно на фундаментальные направления подготовки. Там сейчас будет прорывной скачок. ///
Фото на карточках взято из открытых источников.
– Я уже говорил о том, что поддержка научных исследований в России недостаточная. Инициативных проектов подается огромное количество, а финансирование находят единицы. Связано это с нехваткой фондов. Фундаментальная наука – это сфера, которую должно содержать государство. В противном случае у нее нет никаких перспектив, потому что промышленности – казалось бы, главному стейкхолдеру научных прорывов – это неинтересно, она никогда не будет вкладываться в фундаментальные исследования. Максимум, на что готовы предприятия, – инвестиции в решение отдельных задач конкретного производства, например по улучшению продукции, по разработке новой или по уменьшению ее себестоимости.
Такого нет, например, в развитых странах, где промышленность в первую очередь заинтересована в проведении научных исследований. Металлургические заводы создают лаборатории по разработке новых материалов, финансируют их, занимаются поиском кадров. Например, я хорошо знаю предприятие Vacuumschmelze в Германии – мощное, одно из лучших в мире. Это «белая» металлургия, где все ходят в белых халатах, производят прецизионные материалы и делают это лучше всех на свете. На этом предприятии работают выпускники Кембриджа, Королевского колледжа Лондона. Vacuumschmelze выискивает людей в системе высшего образования, которые могут создавать новую продукцию, являются экспертами в своей области. Платит им на порядок больше, чем в университетах. Да, карьера «академического» ученого с его публикационной активностью и другими задачами будет закончена, весь ваш интеллектуальный труд будет принадлежать предприятию, а оно будет в вас инвестировать и создавать абсолютно все условия, чтобы вы занимались научными исследованиями в целях конкретного предприятия. В России все не так.
– По данным РАН, доля реального сектора экономики в финансировании науки в России – около трети, остальное дает бюджет. Насколько это корректно для Челябинска?
– У нас совсем другая история: примерно 98 процентов финансирования – это бюджет, то есть фонды, государственная поддержка. Внебюджет – это деньги, направленные конкретным предприятием в рамках хоздоговора, и для нас это большая редкость.
– А как эту пирамиду перевернуть?
– В Советском Союзе, как бы мы к нему ни относились, законодательство обязывало предприятия пять процентов своей прибыли отдавать на НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняют университеты и научные институты. Тот корпус, где мы находимся, первый, построен на деньги, которые металлургические заводы платили ЧелГУ за НИОКР. Если предприятие не вкладывается в разработки – это путь в никуда, в первую очередь – для него самого. Наука развивается – промышленность развивается. Вообразите, некоторые предприятия до сих пор используют оборудование тридцатых годов. Соответственно, и продукцию производят тридцатых.
– Значит, у бизнеса нет стимулов, кроме регулирования? На Западе же не принуждают предприятия к этому, они сами вкладываются.
– У российского бизнеса, который вышел из девяностых, была сверхзадача – получить максимальную прибыль из того набора оборудования, которое есть. Вопросы модернизации не интересовали никого. Горизонт планирования был год-два. Сейчас он увеличился до трех лет, а дальше мы и не смотрим.
Но некоторые предприятия действительно развиваются по сценарию создания современного конкурентоспособного производства, в котором есть определенная доля научных исследований. Наш бизнес – он разный.
– То есть ответ на этот вопрос – в создании конкурентоспособной экономики, которая будет соперничать не административными связями, а качественным продуктом на мировом рынке?
– Да. К сожалению, сейчас административные связи дают больше, чем любые конкурентные преимущества. «Зайти» в любую корпорацию с каким-то новым продуктом – практически нерешаемый вопрос, будьте вы хоть семи пядей во лбу и с философским камнем в кармане. А если бы была конкуренция, была бы и понятная система вхождения в любой бизнес, стали бы эффективными и привлекательными стартапы.
Если мы хотим развивать науку, ее надо освободить от всех дурацких регламентов и огромной отчетности. Наука – это творчество. Заставить художника соблюдать какие-то регламенты?.. «Знаете, вот вы линию какую-то не очень прямую ведете, у нас есть ГОСТ на проведение линий…»
– Цитирую ректора МГУ Виктора Садовничего: «Каждое направление, которое изучается в университете, естественное или гуманитарное, требует сегодня элементов, связанных с искусственным интеллектом». Какие шаги в этом направлении делаете вы?
– Движемся согласно стратегии Виктора Антоновича – внедряем изучение аспектов искусственного интеллекта и его применения на разных факультетах. Например, на журфаке исследуют искусственный интеллект как технологию конструирования медиареальности в условиях социокультурных угроз общества. Другими словами, выясняют технологии создания текстов и конструирования реальности в интернете.
Однако есть в ЧелГУ несколько научных групп, которые занимаются этими вопросами много лет: математики, айтишники, радиофизики. У нас открыты лаборатория машинного обучения и интеллектуального анализа данных, лаборатория нейронных технологий и искусственного интеллекта.
Мы занимаемся обработкой больших данных и изображений, используем нейросети, решая задачи, например, по распознаванию лиц, прогнозированию возникновения дефектов в материалах, разрабатываем средства создания аудио- и видеоконтента и интеллектуальные сервисы. Ну и обучаем, конечно же, причем не только своих студентов, но и слушателей. Не раз мы организовывали Школу компьютерного зрения международной компании 3DiVi, Уральскую школу машинного обучения, основанную на курсах Open Data Science и Mail Group. Сейчас открываем совместную лабораторию с разработчиком программного обеспечения Napoleon IT, на базе которой будем проводить научно-исследовательские проекты и образовательные сессии. Недавно выиграли грант на создание образовательных программ магистратуры в области искусственного интеллекта, теперь сможем готовить специалистов, которые будут применять его для решения различного рода задач, включая медицину, биологию, филологию, например.
Бесспорно, за этим будущее. Это понимают все, поэтому сейчас в Челябинске разрабатывается глобальный проект целого центра по искусственному интеллекту, уже сейчас подготовка к нему объединила три университета – ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГМУ, а также около двадцати предприятий из IT-сферы. Его строительство планируется за городом, в L-town, мы активно ищем финансирование этого проекта, который, несомненно, станет, как говорят студенты, бомбическим. Вузы будут обеспечивать базовую подготовку в части искусственного интеллекта, программирования и прочего, а IT-компании доведут специализацию этих ребят каждая по своему направлению. В этом центре будет все необходимое на сегодня оборудование, которое позволит решать задачи реального сектора экономики, в первую очередь – Челябинской области.
Почему это важно, мы уже говорили – успех экономики зависит от успеха в науке. Специалистов по искусственному интеллекту на Южном Урале не так много, поэтому надо объединять их и «прикручивать» к ним реальный сектор, который занимается решением коммерческих задач. К тому же такой подход обеспечит трудоустройство выпускников, которые сейчас вынуждены уезжать в столицу, потому что местные рабочие места пока стоят дешевле. Так и кадры в регионе сохраним.
– Какие еще направления вам кажутся перспективными?
– Все, которые связаны с улучшением качества жизни: здоровья, благосостояния, окружающей среды.
Например, сразу несколько научных задач ставит перед нами промышленный сектор. Мир всерьез столкнулся с необходимостью уменьшения карбонового следа – это то, что образуется в результате сгорания углеводородов. Вы обращаете внимание, как стремительно изменился климат даже в Челябинске? Это не просто случайное «жаркое выдалось лето», это пришло то самое глобальное потепление, о котором мы знаем со школы. В обозримом будущем оно кардинально изменит нашу жизнь, и перед нами, университетскими учеными мира, стоит задача нивелировать эти последствия, а по возможности что-то предотвратить.
Во-первых, необходимо перестраивать технологическую базу производственного сектора: металлургии, строительства, добывающих и перерабатывающих производств. Требуются инженерные решения и предложения в области энергетики и материаловедения. Мы в ЧелГУ, столько лет развивая фундаментальную науку, неплохо в этом разбираемся. Недавно предложили предприятиям региона проект по переработке техногенных отходов, который предусматривает их преобразование в строительные материалы. Например, из отходов ЧМК и содовых производств в Башкирии может получиться строительная смесь, сопоставимая по прочности с бетонами. Или, к примеру, у нас на Урале много камня, а в Нижнем Новгороде его нет совсем. Чтобы построить дороги, можно везти щебень и гравий с Урала или с Кавказа, а можно сделать «подушку» под дорогу из техногенных отходов. За сто лет функционирования промышленности их накопилось огромное количество в самых разных регионах. Необходимо составить карту материалов и выстроить логистику.
Во-вторых, собственно экология. У ЧелГУ есть прекрасный ресурс – ботанический сад, он станет основой карбонового полигона, который мы сейчас начинаем развивать. Сад имеет в своем распоряжении целый комплекс видовой растительности, где можно изучать технологии и методы, связанные с декарбонизацией. Наши ученые могут оценить, какие виды лучше всего потребляют углекислый газ и производят кислород. Этим мы планируем заниматься и в степной зоне, на Аркаиме, где уже спроектирован филиал нашего ботсада. Проект очень перспективный, мы делаем на него ставку.
– Какую роль в этом может сыграть межуниверситетский кампус, разработка которого уже началась?
– Организационную. Кампус – это первый шаг к трансформации системы образования и науки в Челябинской области. Его необходимо наполнить оборудованием, запустить проекты по искусственному интеллекту, водородной энергетике, микробиологии и вирусологии, IT, экологическому машиностроению – и все в связке с нашими предприятиями, внимание и интерес которых тоже предстоит завоевать. Если все сложится, то за пять лет мы привлечем сюда огромный инвестиционный капитал, измеряемый десятками миллиардов рублей. Первые десять миллиардов уже есть – самый сложный шаг мы уже сделали.
– Как ЧелГУ борется с конкуренцией в лице московских и зарубежных вузов?
– Никак. Их не победить. Москва обладает высокой притягательностью. И слава богу, что для нас этот вопрос стал актуален только сейчас – города Золотого кольца с ней столкнулись еще в девяностых. Для них это была катастрофа, потому что уезжала молодежь. У нас же это произошло, когда экология стала совсем «никакая», и люди начали «голосовать ногами». Этот инертный процесс раскачался, и пока его не остановить. Чтобы это произошло, нужно создать на Южном Урале условия, которые будут для ребят достаточными, чтобы они здесь оставались. Хорошо, что сегодняшнее руководство регионом это понимает и предпринимает конкретные шаги. Инициировало строительство нашего кампуса, например.
– Почему я должна выбрать ЧелГУ?
– Кто же из нас равнодушен к классике? Мы не зря так много говорили сейчас о новых технологиях и перестройке экономики. Сделать это смогут только специалисты с фундаментальной подготовкой и междисциплинарным опытом, как в ЧелГУ. Если вам надо научиться веб-дизайну, университет вам совершенно не нужен. А вот если вы хотите получить образование в широком смысле слова, то есть сформировать мировоззрение, составить картину мира и эффективно развиваться дальше, тогда добро пожаловать в наш классический университет. Если вы хотите достойную, высокооплачиваемую работу в будущем, обратите внимание именно на фундаментальные направления подготовки. Там сейчас будет прорывной скачок. ///
Фото на карточках взято из открытых источников.
