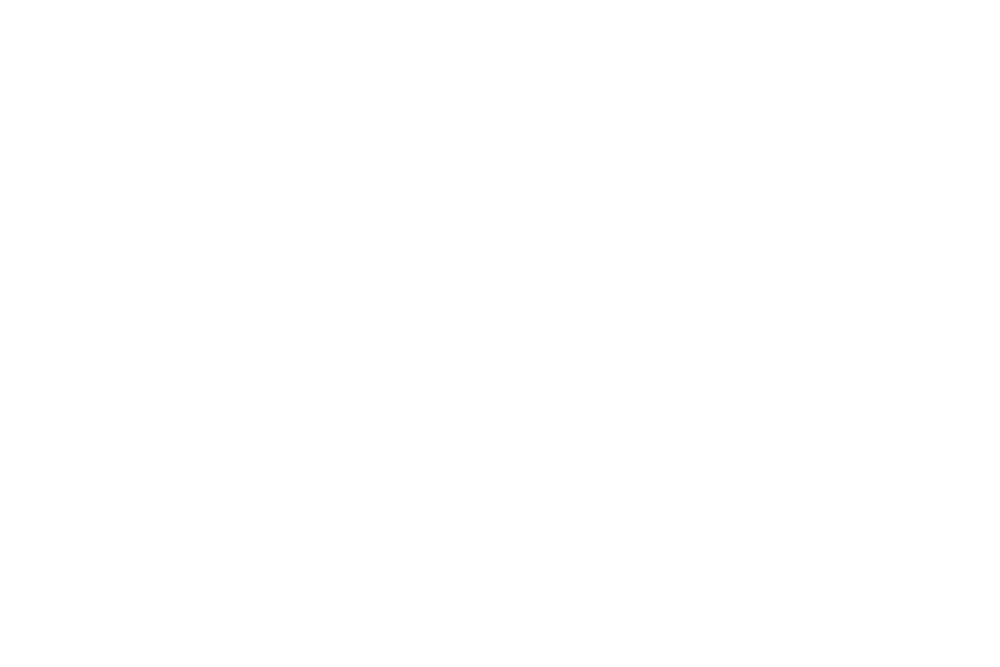АПК. ЧЛБ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
Светлана Черепухина заступила на пост ректора
Южно-Уральского государственного аграрного университета в сентябре прошлого года. За это время она практически не давала интервью. Между тем поговорить было о чем. О том, что нового произошло в вузе, какие точки роста есть в сельскохозяйственной отрасли и как повысить привлекательность аграрных профессий среди молодежи – в интервью Журналу UNO.
Южно-Уральского государственного аграрного университета в сентябре прошлого года. За это время она практически не давала интервью. Между тем поговорить было о чем. О том, что нового произошло в вузе, какие точки роста есть в сельскохозяйственной отрасли и как повысить привлекательность аграрных профессий среди молодежи – в интервью Журналу UNO.
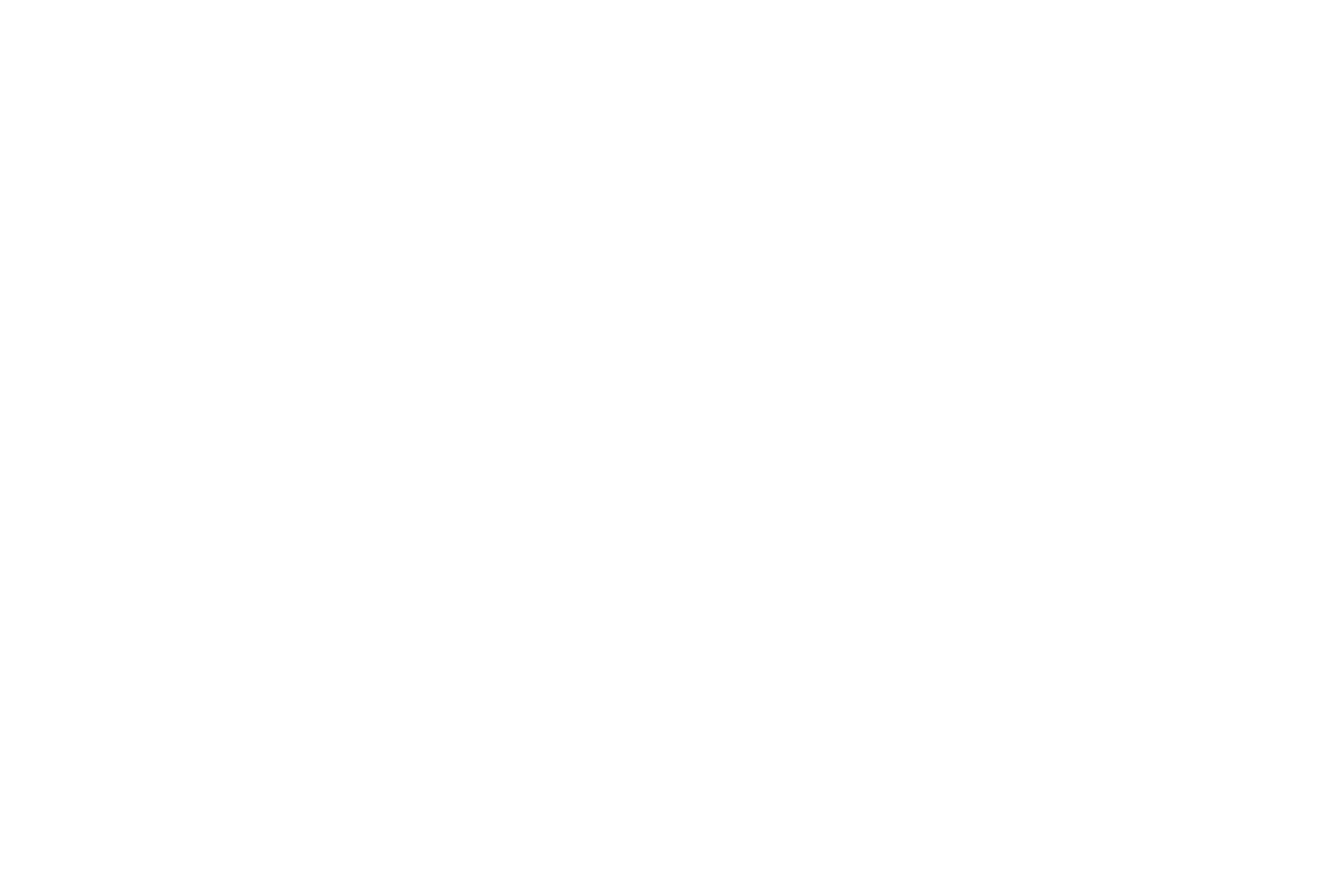
– Комфортно ли вам на новом месте?
– Официально в должность я вступила 1 сентября 2020 года. Но до этого еще год и пару месяцев исполняла обязанности ректора. С Минсельхозом мы договаривались, что к 1 сентября 2019-го мне найдут замену, но этого не произошло. Вскоре я втянулась, и когда задали вопрос: «Вы готовы стать ректором?», ответила: «Да».
По мониторингу, на 2018 год ЮУрГАУ находился на 38-й позиции среди 54 вузов Минсельхоза РФ, а в 2020-м мы перешли уже на 25-е место.
– А по каким показателям это высчитывалось?
– У вузов есть сто рейтинговых показателей. Основные из них – это образовательная и научная деятельность университета. Учитывается средний балл ЕГЭ поступающих в вуз, статьи в Scopus, Web of Science, доходы от НИОКР, доходы от патентной деятельности… Еще, конечно, считают количество иностранцев, которые обучаются в вузе.
Сейчас в университете увеличивается число исследовательских работ, потому что мы ввели стимулирование профессорско-преподавательского состава за публикацию научных статей. Преподаватели получают премиальную выплату в размере 100 тысяч рублей, а поскольку в образовательной и научной деятельности новые требования, мы делаем упор на статьи с квартилями Q1, Q2, Q3, Q4. Например, за статью с квартилем Q1 премиальный фонд составляет 250 тысяч рублей.
– Статьи с квартилями? Что это такое?
– Scopus и Web of Science – это крупнейшие наукометрические международные базы данных, в которых журналы разделены на квартили по востребованности научным сообществом. В зависимости от квартиля существуют разные требования к научным исследованиям и разработкам. К квартилю Q1 относятся наиболее ценные и масштабные научные статьи. Именно поэтому мы сейчас делаем упор на подготовку кандидатов и докторов наук. Почему? Потому что с каждым годом их количество уменьшается.
– Умирают?
– В том числе. К тому же докторам убрали бесплатную докторантуру.
– Что это значит? Бесплатную для кого?
– Если докторант хочет защитить докторскую диссертацию, он платит деньги вузу, который его подготавливает. Но даже те, кто учатся на бюджете в аспирантуре, защищаются плохо. На вопрос: «Почему?» отвечу просто: многие хотят всего и сразу. Если раньше магистранты могли пойти в аспирантуру и забыть про нее, не защищаться, то сейчас это обязанность. Учишься – значит, должен. Именно поэтому некоторые отчисляются уже на втором курсе. Мы подумали, как увеличить остепененность, и приняли решение: тот, кто защитит кандидатскую диссертацию, получит выплату в размере 250 тысяч рублей, за докторскую – 500.
Это важно – готовить высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, потому что требования к уровню подготовки сейчас очень серьезные, и педагоги должны им соответствовать.
– Рост рейтинговых показателей был целью? Какие еще задачи вы ставили перед собой?
– Да, был. Первой задачей было продвижение вуза в научных исследованиях и разработках. Мы должны были сблизиться с аграрным производством. И эта задача у нас сейчас внедряется: с ГК «Ариант» мы вплотную работаем по хоздоговорной тематике, по разработке и внедрению научных исследований. Первый договор был на десять миллионов, и его главным условием стало сохранение поголовья, то есть минимизация падежа свиней. По нему мы уже достигли необходимых показателей и подписали все акты. Сейчас с «Ариантом» планируем вместе работать по генетическим исследованиям. Наработки в вузе есть: в 2017 году мы выиграли конкурс по свиноводству и получили грант, а сейчас хотим продолжить двигаться в этом направлении.
– Это очень важно, потому что вся генетика на данный момент – импортная. Что должно произойти, чтобы она у нас была своя?
– Это небыстрый процесс. Если со стороны федерального бюджета нам выделяются деньги, мы не можем на них закупать импортное оборудование для генетики. Только отечественное. Часть у нас уже есть, остальное надо докупать, но это будет уже после того, как посмотрим дорожную карту.
Сейчас мы вступаем в еще один проект, который согласовывали с апреля. Совместно с индустриальным партнером и научно-исследовательским институтом участвовали в Федеральной научно-технической программе (ФНТП) по бройлерному птицеводству. Скоро мы получим свою часть финансирования на создание новой кафедры по этому направлению. Заранее уже посмотрели, какое оборудование будем закупать, и, если у нас все получится, станем единственным в УрФО вузом с такой кафедрой. Если я не ошибаюсь, мы находимся на третьем месте по производству мяса птицы, поэтому сможем готовить специалистов для птицефабрик.
– Как-то раз я была на конференции по крупному рогатому скоту, и меня поразил уровень развития науки. Оказывается, сейчас можно сделать так, чтобы корова родила теленка нужного пола. Научились сексировать семя.
– Мы, троичане, тоже этим занимаемся. Говорю троичане, потому что наш вуз находится на трех площадках: в Троицке, Челябинске и в селе Миасском. Каждый институт идет в своем направлении: ветеринария, инженерия, агрономия и агроэкология. Преподаватели по ветеринарному направлению в Троицке занимаются вопросами осеменения коров, и у нас уже заключены договоры с хозяйствами на внедрение новых технологий.
– Насколько активно агропромышленный сектор вкладывает деньги в развитие науки и технологий?
– Сельское хозяйство зависит от климатических условий. В этом и в прошлом году в Челябинской области была сильная засуха. В январе мы спланировали научную работу, в апреле подготовили проекты договоров, а в июне нам пришлось их расторгнуть, потому что предприятия не стали платить, видя, что урожая не будет и что они соберут только то, что посеяли. Дело в том, что у них не всегда хватает финансов для внедрения науки.
Еще один момент, который нас очень волнует, – это сильное отставание материально-технической базы вузов от таковой сельхозпредприятий. Сейчас учебным заведениям выделяется мало денежных средств на приобретение нового оборудования, поэтому, когда студент приходит на практику, бывает, мне звонят и говорят: «Он ничего не умеет». Я отвечаю: «Подождите, он умеет, но не на вашей технике». Допустим, у нас трактор 2012 года, а у них – американский John Deere, который полностью на электронике. Техника разная, понятно, что возникают трудности.
На данный момент в программе развития агрообразования, которую составлял Минсельхоз РФ, это уже учтено, но все же ситуация отличается от того, что есть на самом деле. Раньше, прежде чем поставить технику в агропредприятия, проходило испытание в вузе: на ней готовили кадры, и только потом она уходила в хозяйства. Сейчас по-другому. Мы преподаем механизацию животноводства, но у нас нет такого оборудования. Студенты все изучают либо по плакатам, либо по картинкам на компьютере, а потом приходят на практику, и получается так, что саму технику они толком и не знают.
– После выпуска ваши студенты идут работать по профессии?
– Показатель трудоустройства есть в мониторинге, который проводит Минобрнауки. По нему у нас 72 % выпускников трудоустроены в агропромышленных комплексах. Но это по показателю – мы же не знаем, как все обстоит на самом деле. В последние годы сталкиваемся с такой проблемой, что выпускники не хотят возвращаться в села, потому что там нет инфраструктуры.
– То есть они идут работать в крупные холдинги типа «Арианта»?
– Да, это ведь тоже агропромышленный комплекс. Если и выбирают работу на фермах, то в близлежащих к городу. Вот, например, Анатолий Иванович Шундеев (глава одного из крупнейших хозяйств по молочному животноводству. – Прим. ред.) говорит: «У меня зарплата 75 тысяч. Не идут». Он готов дать им жилье, но и это не решает вопрос. Молодым людям нужна инфраструктура: школы, больницы, рестораны, кружки для детей, бассейны… Предприятие, даже очень сильное, эти вопросы не может решить.
С Минсельхозом мы обсуждали эту проблему и обговаривали дальнейшие действия: как нам привлекать студентов и как возвращать их в села. На данный момент есть комплексная программа развития сельских территорий, надо только, чтобы она начала работать.
– Вы тоже считаете, что будущее за крупными холдингами?
– Неважно, что думаю я. Важно, что думают законодатели. Раньше наши студенты могли проходить практику как в крупных агрохолдингах, так и в ИП и КФХ. Но законодательство изменилось, и проходить практику в ИП и КФХ запретили.
– Почему?
– Я не могу ответить на этот вопрос, но есть закон, и мы должны его исполнять. Уже на протяжении двух лет мы сталкиваемся с тем, что нам звонят представители ИП и говорят: «Дайте студентов!» Как мы их дадим, если закон не позволяет? Но буквально вчера к нам поступил проект, который собирается рассматривать Госдума, – хотят вернуть прохождение практики в ИП и КФХ.
– В 2020 году в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований ваш вуз получил два гранта по миллиону рублей. За какие проекты? И на что вы потратили эти «великие деньги»?
– Да, это всего лишь миллион. Сами понимаете, сделать науку на такую сумму невозможно. Мы участвовали в конкурсе РФФИ, который проходил в Челябинской области. Изначально заявлялись на большее количество тем, и суммы там были, конечно, другие. Но прошли отбор только по двум. Первая – «Разработка способа трансформации животноводческих отходов в кормовую биомассу с помощью личинок Hermetia illucens», то есть переработка помета и всего остального… Это актуально и не ново для нас, поэтому и взялись за нее, осталось только доработать. Этим занимался Дмитрий Сергеевич Брюханов.
Вторая тема, за которую университет получил грант, была у Виталия Матвеевича Попова – изучение инфракрасного излучения при сушке («Исследование связей строения, физико-химических и оптических свойств, спектральных характеристик сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Челябинской области, влияющих на процессы обезвоживания при разработке зеленых технологий ее переработки»).
Но надо отметить, что вуз получил от РФФИ всего по 500 тысяч с каждой темы, а другая половина суммы досталась тем, кто подавал заявку, то есть самим ученым. На деньги, которые получил университет, мы купили оборудование. Кажется, что 500 тысяч – это немного, но для нас как для вуза сельхознаправления это все же деньги. В этом году мы тоже подали заявки на несколько тем в конкурсе.
А вообще, есть много грантовых конкурсов. Я уже говорила про ФНТП, в которой мы участвовали. Если мне не изменяет память, общая стоимость проекта была 400 миллионов рублей. Если он будет развиваться дальше, то в 2022 году на бройлерное производство нам выделят 74,8 миллиона рублей, а с 2023-го предполагается поддержание данной кафедры, то есть ежегодно порядка 14 миллионов рублей будут поступать на ее развитие.
– Большие надежды связываете с подобными конкурсами, грантами?
– Конечно. Это поддержка для вуза, поддержка для наших ученых, потому что собственными силами мы такие проекты не потянем. В университете я работаю с 1999 года – как окончила последний курс, так и осталась здесь. Поэтому сравниваю то, что было раньше, с тем, что есть сейчас. Раньше только за счет образовательных платных услуг мы имели по 75–80 миллионов в год. Сейчас, с введением нормативно-подушевого финансирования, наши доходы сократились вдвое. Оно не учитывает специфику каждого вуза. Есть учебные заведения, в которые «заходишь и выходишь в одни двери», то есть у них одно здание, два общежития и гараж. А у нашего вуза 136 объектов недвижимости, каждый из которых надо содержать. Специфика нормативно-подушевого финансирования не учитывает нормативные затраты: например, на коммунальные расходы выделяется столько же, сколько всем остальным, а ведь еще нужны электрики и сантехники, охрана и обслуживание…
Если говорить о других доходах, то мы внедряем научные исследования и разработки, увеличиваем внебюджетную составляющую, но если заключаем договор с предприятием, то эти деньги идут на решение тех задач, которые это предприятие перед нами ставит. На само развитие вуза денег не остается.
Поэтому грантовая поддержка нам очень нужна для развития, пополнения и обновления материально-технической и научно-исследовательской базы. С ее помощью мы уже создали лабораторию электрофизических исследований биологических объектов АПК, а также на кафедру животноводства и птицеводства приобрели оборудование для изучения возможности использования личинок Hermetia illucens в сельском хозяйстве.
– Я правильно понимаю, что подушевое финансирование, кроме негативного экономического эффекта, не лучшим образом сказывается и на качестве образования? Оно не позволяет применять репрессивные меры по отношению к нерадивым студентам. За каждого вы получаете деньги, а если его выгоните, то…
– То не будем получать. Но говорить о том, что мы вообще никого не выгоняем, нельзя – отчисления идут ежегодно.
– Помню, у нас в конце третьего курса на русской литературе XIX века срезались почти полкурса – из ста человек около сорока… Но сейчас же невозможно просто взять и отчислить почти половину?
– Ну а как? Если они не выполняют требования законодательства об образовании.
– Тянуть за уши))
– Грубо говоря, у нас за каждым студентом закреплен преподаватель. Если студент не приходит на занятие, тот ему звонит и спрашивает: «Ты где?» Раньше такого не было. Когда мы учились, была обязанность, а сейчас ребята стараются параллельно с учебой зарабатывать деньги. Я не говорю, что это плохо, но это влияет на те знания, которые они получают. А с переводом на дистант… Понимаю, экономистов можно перевести на онлайн-обучение, но как быть с инженерами и ветеринарами, которые не будут проходить практические и лабораторные занятия? Это невозможно.
– А как у вас сейчас с этим? Как вы пережили два года пандемии?
– Было тяжело, потому что материально-техническая база нашего вуза (имею в виду компьютерную составляющую) не позволила нам это сделать сразу. В начале пандемии мы в кратчайшие сроки должны были сделать закупки, дать каждому преподавателю вход в систему, каждого научить… Научить молодых преподавателей – это просто, но у нас много профессоров в возрасте. Они могут пользоваться компьютерами, но им тяжело изучать новые программы.
– В 2021 году семнадцать ваших студентов стали стипендиатами «Россельхозбанка». Это хороший показатель для вуза?
– Для нас – да. Насколько я помню, в прошлом году было семь стипендиатов, а в этом – уже семнадцать. Ребята проходили серьезный отбор, и те, кого выбрали, – это наша элита, на которую можно надеяться в дальнейшем.
– Наверное, они потом останутся в вузе?
– Не все… Еще раз повторю, молодежи сейчас надо все и сразу, а придя в вуз после аспирантуры или магистратуры, сразу получать большие деньги не получится. То есть зарплата будет около 25 тысяч рублей. Они на такую зарплату жить не готовы.
Конечно, у нас есть преподаватели, заработок которых больше, чем у ректора. Но это доктора наук, профессорский состав, и они шли к этому постепенно и долго. Вчерашних студентов это не устраивает.
Сейчас заработная плата преподавателя зависит от заработной платы по региону. Средняя зарплата преподавателя по вузу – это 200 % от средней по региону. В Челябинской области этот показатель около 35 тысяч рублей, то есть в университете мы выходим на уровень 70 тысяч рублей на человека.
– Это за одну ставку, или для этого нужно набрать необходимое количество часов?
– Здесь дело не в часах. Когда в 2013 году ввели Указ Президента по внедрению 200%-ной средней заработной платы от региона, сразу было правило – преподаватель должен выдерживать эффективный контракт. На часы у него есть ставочная заработная плата. Допустим, у профессора ставка 64 тысячи, у доцента – 34, у старшего преподавателя – 25–26 тысяч рублей. Все остальное они набирают за счет эффективности своей работы.
– Чем измеряется эффективность?
– У каждого вуза есть трудовой договор с работниками. По эффективному контракту, принятому решением ученого совета, преподаватели должны выполнять определенные требования. Цель этого контракта – стимулировать рост самого преподавателя, мотивировать его к научной деятельности, к защите диссертаций. Учитываются количество статей в Scopus и Web of Science, хоздоговорная тематика, участие студентов в конкурсах… На самом деле много критериев, по которым оценивают их работу. И это те критерии, которые выводят вуз на мониторинговые показатели.
Ежегодно у нас увеличивается процент эффективных преподавателей. Если в прошлом году было всего четыре человека, которые прошли эффективный контракт, то в этом их уже пятнадцать. Есть еще направления, которые интересны нам самим как вузу. Я уже называла эти цифры – это выплаты за диссертации по 250 и 500 тысяч рублей. И это идет в ту же самую копилку, то есть в достижение показателей 200 % в среднем.
– Как бы там ни было, общий вектор изменений – все же в лучшую сторону. Меняется действительность, а вместе с ней и отношение – к науке, к бизнесу, к тому, каким мы хотим видеть будущее. И самые продвинутые предприятия вкладывают деньги как в технологии, так и в обучение своих сотрудников. Поощряют получение научных степеней.
– Да, это так. У нас в аспирантуре много известных имен – глав крупных сельскохозяйственных предприятий.
– Они по-настоящему учатся или просто имеют целью получение степени, чтобы написать ее на визитке?
– По-настоящему.
– Знаю, что ветеринарные клиники испытывают острый дефицит кадров. Вы обучаете только тех, кто потом будет работать в сельском хозяйстве и животноводстве, или у вас можно стать ветеринаром, который будет лечить кошек, собак и хомяков?
– Я не знаю, откуда такое мнение, что мы готовим специалистов только для крупного рогатого скота и свиней. Ничего подобного. Мы плотно взаимодействуем с Челябинской ветеринарной станцией, наши ребята проходят у них практику, и в вузе есть небольшая ветеринарная клиника, куда местные жители привозят на лечение своих животных. Это ни в коем случае не зарабатывание денег – это практические занятия, на которых студенты под председательством профессора лечат подопечных.
– «Тренируются на кошках»?))
– Да. У нас есть курсы дополнительного образования по грумингу, где ребята учатся стричь животных, делать прически… Помимо этого мы формируем рабочие программы, которые интересны для предприятий, и обучаем по ним студентов.
– А есть предприятия, которые финансируют обучение некоторых студентов? Целевой набор.
– Есть предприятия, которые совместно с главами районов заключают целевой договор. по нему студенты учатся, а потом возвращаются обратно. Есть еще, как мы их называем, платные целевые места – это когда абитуриент заключает договор с предприятием, которое оплачивает его обучение.
В 2021 году по целевым направлениям на очную форму обучения мы приняли пять человек, на заочную – девятнадцать.
– Какие точки роста для сельского хозяйства вы видите сегодня?
– Я не работала при Советском Союзе, но знаю, что тогда на земле было больше работающих специалистов. Хотелось бы, чтобы сейчас было так же, чтобы кадры ехали в села, поэтому нужно поддерживать программы для развития сельского хозяйства.
– То есть точка роста вашего университета – это развитие самого села?
– Да. Если село будет развиваться, то будем развиваться и мы, потому что возрастет потребность в кадрах.
– Когда мы с вами встретились две недели назад, я с удивлением услышала, что идут разговоры о цифровизации в сельском хозяйстве. Что вы собираетесь цифровизировать?
– В этом году все вузы Челябинской области участвовали в гранте. Его заявителем был ЮУрГУ, а мы пошли как вузы-партнеры. Суть программы была во внедрении в образование искусственного интеллекта. Когда нас собрал Шестаков, он отметил: «Я не понимаю, как вы будете внедрять искусственный интеллект в сельское хозяйство… Вы должны придумать это сами».
С 2022 года мы планируем набирать группы по пятнадцать человек по применению искусственного интеллекта в агроинженерии. Возможно, это будет складирование растениеводческой продукции. Наши специалисты работают в этом направлении, а преподавателей мы уже отправили на обучение. Посмотрим, что из этого получится.
Развитие цифровизации и искусственного интеллекта все равно когда-нибудь будет, ведь уже сейчас есть умная техника. Мы были на Всероссийском дне поля в Екатеринбурге, где видели комбайн, который никем не управляется. Его заводят, он сам рисует карту, как ему ездить, и начинает работать. То есть мы все равно когда-нибудь к этому придем.
– Какими нововведениями планируете нас удивлять в 2022 году?
– Если все будет хорошо, то мы запустим кафедру бройлерного птицеводства, будем готовить специалистов и развиваться в научном направлении, начнем работу на яйцах «Смена-9», подпишем договор с «Ариантом» и будем продолжать развивать генетику в свиноводстве. Это то, что касается Троицкой площадки. В Челябинске мы сейчас планируем взаимодействие с ЧКЗ – запуск инжинирингового центра, то есть будем готовить конструкторов.
В селе Миасском у нас уже есть один внедренный в производство сорт ячменя – голозерный. Мы хотим создать лабораторию, чтобы разрабатывать там другие сорта. Конечно, это будет не только в 2022 году, чтобы вывести что-то новое, нужно не менее пяти лет. Это наши основные проекты. Ну и, конечно, будут еще нововведения с образовательной точки зрения: запуск магистратуры по искусственному интеллекту, создание студенческого пресс-центра, своего телевидения (чтобы оно было на три института), внедрение новой программы по воспитательной работе. Еще есть такая идея – открыть на Челябинской и Миасской площадках среднее профессиональное образование. Не знаю, успеем ли мы это воплотить за 2022 год, но в дальнейшем – точно. В ближайшие пять лет планируем запустить генетическую лабораторию.
– Сколько сейчас сотрудников и студентов по всем трем институтам?
– Всего у нас 602 штатные единицы, 300 из них – педагоги. В Программе аграрного образования, которую разработало Министерство сельского хозяйства РФ, есть непрофильные услуги, которые мы должны передавать на аутсорсинг. Поэтому у нас в вузе выведены охрана и клининг. Если бы мы этого не сделали, штат был бы около 900–950 человек.
Студентов – 5 980 человек. У нас обучаются иностранные граждане из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Украины и Германии, а также в 2020 году впервые по дополнительным программам обучались студенты из Индонезии, Зимбабве, Гвинеи, Афганистана, Египта и Йемена.
– В 2021-м набор состоялся так, как вы хотели?
– Да, причем сразу и в полном объеме, дополнительный набор мы не объявляли. ///
– Официально в должность я вступила 1 сентября 2020 года. Но до этого еще год и пару месяцев исполняла обязанности ректора. С Минсельхозом мы договаривались, что к 1 сентября 2019-го мне найдут замену, но этого не произошло. Вскоре я втянулась, и когда задали вопрос: «Вы готовы стать ректором?», ответила: «Да».
По мониторингу, на 2018 год ЮУрГАУ находился на 38-й позиции среди 54 вузов Минсельхоза РФ, а в 2020-м мы перешли уже на 25-е место.
– А по каким показателям это высчитывалось?
– У вузов есть сто рейтинговых показателей. Основные из них – это образовательная и научная деятельность университета. Учитывается средний балл ЕГЭ поступающих в вуз, статьи в Scopus, Web of Science, доходы от НИОКР, доходы от патентной деятельности… Еще, конечно, считают количество иностранцев, которые обучаются в вузе.
Сейчас в университете увеличивается число исследовательских работ, потому что мы ввели стимулирование профессорско-преподавательского состава за публикацию научных статей. Преподаватели получают премиальную выплату в размере 100 тысяч рублей, а поскольку в образовательной и научной деятельности новые требования, мы делаем упор на статьи с квартилями Q1, Q2, Q3, Q4. Например, за статью с квартилем Q1 премиальный фонд составляет 250 тысяч рублей.
– Статьи с квартилями? Что это такое?
– Scopus и Web of Science – это крупнейшие наукометрические международные базы данных, в которых журналы разделены на квартили по востребованности научным сообществом. В зависимости от квартиля существуют разные требования к научным исследованиям и разработкам. К квартилю Q1 относятся наиболее ценные и масштабные научные статьи. Именно поэтому мы сейчас делаем упор на подготовку кандидатов и докторов наук. Почему? Потому что с каждым годом их количество уменьшается.
– Умирают?
– В том числе. К тому же докторам убрали бесплатную докторантуру.
– Что это значит? Бесплатную для кого?
– Если докторант хочет защитить докторскую диссертацию, он платит деньги вузу, который его подготавливает. Но даже те, кто учатся на бюджете в аспирантуре, защищаются плохо. На вопрос: «Почему?» отвечу просто: многие хотят всего и сразу. Если раньше магистранты могли пойти в аспирантуру и забыть про нее, не защищаться, то сейчас это обязанность. Учишься – значит, должен. Именно поэтому некоторые отчисляются уже на втором курсе. Мы подумали, как увеличить остепененность, и приняли решение: тот, кто защитит кандидатскую диссертацию, получит выплату в размере 250 тысяч рублей, за докторскую – 500.
Это важно – готовить высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, потому что требования к уровню подготовки сейчас очень серьезные, и педагоги должны им соответствовать.
– Рост рейтинговых показателей был целью? Какие еще задачи вы ставили перед собой?
– Да, был. Первой задачей было продвижение вуза в научных исследованиях и разработках. Мы должны были сблизиться с аграрным производством. И эта задача у нас сейчас внедряется: с ГК «Ариант» мы вплотную работаем по хоздоговорной тематике, по разработке и внедрению научных исследований. Первый договор был на десять миллионов, и его главным условием стало сохранение поголовья, то есть минимизация падежа свиней. По нему мы уже достигли необходимых показателей и подписали все акты. Сейчас с «Ариантом» планируем вместе работать по генетическим исследованиям. Наработки в вузе есть: в 2017 году мы выиграли конкурс по свиноводству и получили грант, а сейчас хотим продолжить двигаться в этом направлении.
– Это очень важно, потому что вся генетика на данный момент – импортная. Что должно произойти, чтобы она у нас была своя?
– Это небыстрый процесс. Если со стороны федерального бюджета нам выделяются деньги, мы не можем на них закупать импортное оборудование для генетики. Только отечественное. Часть у нас уже есть, остальное надо докупать, но это будет уже после того, как посмотрим дорожную карту.
Сейчас мы вступаем в еще один проект, который согласовывали с апреля. Совместно с индустриальным партнером и научно-исследовательским институтом участвовали в Федеральной научно-технической программе (ФНТП) по бройлерному птицеводству. Скоро мы получим свою часть финансирования на создание новой кафедры по этому направлению. Заранее уже посмотрели, какое оборудование будем закупать, и, если у нас все получится, станем единственным в УрФО вузом с такой кафедрой. Если я не ошибаюсь, мы находимся на третьем месте по производству мяса птицы, поэтому сможем готовить специалистов для птицефабрик.
– Как-то раз я была на конференции по крупному рогатому скоту, и меня поразил уровень развития науки. Оказывается, сейчас можно сделать так, чтобы корова родила теленка нужного пола. Научились сексировать семя.
– Мы, троичане, тоже этим занимаемся. Говорю троичане, потому что наш вуз находится на трех площадках: в Троицке, Челябинске и в селе Миасском. Каждый институт идет в своем направлении: ветеринария, инженерия, агрономия и агроэкология. Преподаватели по ветеринарному направлению в Троицке занимаются вопросами осеменения коров, и у нас уже заключены договоры с хозяйствами на внедрение новых технологий.
– Насколько активно агропромышленный сектор вкладывает деньги в развитие науки и технологий?
– Сельское хозяйство зависит от климатических условий. В этом и в прошлом году в Челябинской области была сильная засуха. В январе мы спланировали научную работу, в апреле подготовили проекты договоров, а в июне нам пришлось их расторгнуть, потому что предприятия не стали платить, видя, что урожая не будет и что они соберут только то, что посеяли. Дело в том, что у них не всегда хватает финансов для внедрения науки.
Еще один момент, который нас очень волнует, – это сильное отставание материально-технической базы вузов от таковой сельхозпредприятий. Сейчас учебным заведениям выделяется мало денежных средств на приобретение нового оборудования, поэтому, когда студент приходит на практику, бывает, мне звонят и говорят: «Он ничего не умеет». Я отвечаю: «Подождите, он умеет, но не на вашей технике». Допустим, у нас трактор 2012 года, а у них – американский John Deere, который полностью на электронике. Техника разная, понятно, что возникают трудности.
На данный момент в программе развития агрообразования, которую составлял Минсельхоз РФ, это уже учтено, но все же ситуация отличается от того, что есть на самом деле. Раньше, прежде чем поставить технику в агропредприятия, проходило испытание в вузе: на ней готовили кадры, и только потом она уходила в хозяйства. Сейчас по-другому. Мы преподаем механизацию животноводства, но у нас нет такого оборудования. Студенты все изучают либо по плакатам, либо по картинкам на компьютере, а потом приходят на практику, и получается так, что саму технику они толком и не знают.
– После выпуска ваши студенты идут работать по профессии?
– Показатель трудоустройства есть в мониторинге, который проводит Минобрнауки. По нему у нас 72 % выпускников трудоустроены в агропромышленных комплексах. Но это по показателю – мы же не знаем, как все обстоит на самом деле. В последние годы сталкиваемся с такой проблемой, что выпускники не хотят возвращаться в села, потому что там нет инфраструктуры.
– То есть они идут работать в крупные холдинги типа «Арианта»?
– Да, это ведь тоже агропромышленный комплекс. Если и выбирают работу на фермах, то в близлежащих к городу. Вот, например, Анатолий Иванович Шундеев (глава одного из крупнейших хозяйств по молочному животноводству. – Прим. ред.) говорит: «У меня зарплата 75 тысяч. Не идут». Он готов дать им жилье, но и это не решает вопрос. Молодым людям нужна инфраструктура: школы, больницы, рестораны, кружки для детей, бассейны… Предприятие, даже очень сильное, эти вопросы не может решить.
С Минсельхозом мы обсуждали эту проблему и обговаривали дальнейшие действия: как нам привлекать студентов и как возвращать их в села. На данный момент есть комплексная программа развития сельских территорий, надо только, чтобы она начала работать.
– Вы тоже считаете, что будущее за крупными холдингами?
– Неважно, что думаю я. Важно, что думают законодатели. Раньше наши студенты могли проходить практику как в крупных агрохолдингах, так и в ИП и КФХ. Но законодательство изменилось, и проходить практику в ИП и КФХ запретили.
– Почему?
– Я не могу ответить на этот вопрос, но есть закон, и мы должны его исполнять. Уже на протяжении двух лет мы сталкиваемся с тем, что нам звонят представители ИП и говорят: «Дайте студентов!» Как мы их дадим, если закон не позволяет? Но буквально вчера к нам поступил проект, который собирается рассматривать Госдума, – хотят вернуть прохождение практики в ИП и КФХ.
– В 2020 году в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований ваш вуз получил два гранта по миллиону рублей. За какие проекты? И на что вы потратили эти «великие деньги»?
– Да, это всего лишь миллион. Сами понимаете, сделать науку на такую сумму невозможно. Мы участвовали в конкурсе РФФИ, который проходил в Челябинской области. Изначально заявлялись на большее количество тем, и суммы там были, конечно, другие. Но прошли отбор только по двум. Первая – «Разработка способа трансформации животноводческих отходов в кормовую биомассу с помощью личинок Hermetia illucens», то есть переработка помета и всего остального… Это актуально и не ново для нас, поэтому и взялись за нее, осталось только доработать. Этим занимался Дмитрий Сергеевич Брюханов.
Вторая тема, за которую университет получил грант, была у Виталия Матвеевича Попова – изучение инфракрасного излучения при сушке («Исследование связей строения, физико-химических и оптических свойств, спектральных характеристик сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Челябинской области, влияющих на процессы обезвоживания при разработке зеленых технологий ее переработки»).
Но надо отметить, что вуз получил от РФФИ всего по 500 тысяч с каждой темы, а другая половина суммы досталась тем, кто подавал заявку, то есть самим ученым. На деньги, которые получил университет, мы купили оборудование. Кажется, что 500 тысяч – это немного, но для нас как для вуза сельхознаправления это все же деньги. В этом году мы тоже подали заявки на несколько тем в конкурсе.
А вообще, есть много грантовых конкурсов. Я уже говорила про ФНТП, в которой мы участвовали. Если мне не изменяет память, общая стоимость проекта была 400 миллионов рублей. Если он будет развиваться дальше, то в 2022 году на бройлерное производство нам выделят 74,8 миллиона рублей, а с 2023-го предполагается поддержание данной кафедры, то есть ежегодно порядка 14 миллионов рублей будут поступать на ее развитие.
– Большие надежды связываете с подобными конкурсами, грантами?
– Конечно. Это поддержка для вуза, поддержка для наших ученых, потому что собственными силами мы такие проекты не потянем. В университете я работаю с 1999 года – как окончила последний курс, так и осталась здесь. Поэтому сравниваю то, что было раньше, с тем, что есть сейчас. Раньше только за счет образовательных платных услуг мы имели по 75–80 миллионов в год. Сейчас, с введением нормативно-подушевого финансирования, наши доходы сократились вдвое. Оно не учитывает специфику каждого вуза. Есть учебные заведения, в которые «заходишь и выходишь в одни двери», то есть у них одно здание, два общежития и гараж. А у нашего вуза 136 объектов недвижимости, каждый из которых надо содержать. Специфика нормативно-подушевого финансирования не учитывает нормативные затраты: например, на коммунальные расходы выделяется столько же, сколько всем остальным, а ведь еще нужны электрики и сантехники, охрана и обслуживание…
Если говорить о других доходах, то мы внедряем научные исследования и разработки, увеличиваем внебюджетную составляющую, но если заключаем договор с предприятием, то эти деньги идут на решение тех задач, которые это предприятие перед нами ставит. На само развитие вуза денег не остается.
Поэтому грантовая поддержка нам очень нужна для развития, пополнения и обновления материально-технической и научно-исследовательской базы. С ее помощью мы уже создали лабораторию электрофизических исследований биологических объектов АПК, а также на кафедру животноводства и птицеводства приобрели оборудование для изучения возможности использования личинок Hermetia illucens в сельском хозяйстве.
– Я правильно понимаю, что подушевое финансирование, кроме негативного экономического эффекта, не лучшим образом сказывается и на качестве образования? Оно не позволяет применять репрессивные меры по отношению к нерадивым студентам. За каждого вы получаете деньги, а если его выгоните, то…
– То не будем получать. Но говорить о том, что мы вообще никого не выгоняем, нельзя – отчисления идут ежегодно.
– Помню, у нас в конце третьего курса на русской литературе XIX века срезались почти полкурса – из ста человек около сорока… Но сейчас же невозможно просто взять и отчислить почти половину?
– Ну а как? Если они не выполняют требования законодательства об образовании.
– Тянуть за уши))
– Грубо говоря, у нас за каждым студентом закреплен преподаватель. Если студент не приходит на занятие, тот ему звонит и спрашивает: «Ты где?» Раньше такого не было. Когда мы учились, была обязанность, а сейчас ребята стараются параллельно с учебой зарабатывать деньги. Я не говорю, что это плохо, но это влияет на те знания, которые они получают. А с переводом на дистант… Понимаю, экономистов можно перевести на онлайн-обучение, но как быть с инженерами и ветеринарами, которые не будут проходить практические и лабораторные занятия? Это невозможно.
– А как у вас сейчас с этим? Как вы пережили два года пандемии?
– Было тяжело, потому что материально-техническая база нашего вуза (имею в виду компьютерную составляющую) не позволила нам это сделать сразу. В начале пандемии мы в кратчайшие сроки должны были сделать закупки, дать каждому преподавателю вход в систему, каждого научить… Научить молодых преподавателей – это просто, но у нас много профессоров в возрасте. Они могут пользоваться компьютерами, но им тяжело изучать новые программы.
– В 2021 году семнадцать ваших студентов стали стипендиатами «Россельхозбанка». Это хороший показатель для вуза?
– Для нас – да. Насколько я помню, в прошлом году было семь стипендиатов, а в этом – уже семнадцать. Ребята проходили серьезный отбор, и те, кого выбрали, – это наша элита, на которую можно надеяться в дальнейшем.
– Наверное, они потом останутся в вузе?
– Не все… Еще раз повторю, молодежи сейчас надо все и сразу, а придя в вуз после аспирантуры или магистратуры, сразу получать большие деньги не получится. То есть зарплата будет около 25 тысяч рублей. Они на такую зарплату жить не готовы.
Конечно, у нас есть преподаватели, заработок которых больше, чем у ректора. Но это доктора наук, профессорский состав, и они шли к этому постепенно и долго. Вчерашних студентов это не устраивает.
Сейчас заработная плата преподавателя зависит от заработной платы по региону. Средняя зарплата преподавателя по вузу – это 200 % от средней по региону. В Челябинской области этот показатель около 35 тысяч рублей, то есть в университете мы выходим на уровень 70 тысяч рублей на человека.
– Это за одну ставку, или для этого нужно набрать необходимое количество часов?
– Здесь дело не в часах. Когда в 2013 году ввели Указ Президента по внедрению 200%-ной средней заработной платы от региона, сразу было правило – преподаватель должен выдерживать эффективный контракт. На часы у него есть ставочная заработная плата. Допустим, у профессора ставка 64 тысячи, у доцента – 34, у старшего преподавателя – 25–26 тысяч рублей. Все остальное они набирают за счет эффективности своей работы.
– Чем измеряется эффективность?
– У каждого вуза есть трудовой договор с работниками. По эффективному контракту, принятому решением ученого совета, преподаватели должны выполнять определенные требования. Цель этого контракта – стимулировать рост самого преподавателя, мотивировать его к научной деятельности, к защите диссертаций. Учитываются количество статей в Scopus и Web of Science, хоздоговорная тематика, участие студентов в конкурсах… На самом деле много критериев, по которым оценивают их работу. И это те критерии, которые выводят вуз на мониторинговые показатели.
Ежегодно у нас увеличивается процент эффективных преподавателей. Если в прошлом году было всего четыре человека, которые прошли эффективный контракт, то в этом их уже пятнадцать. Есть еще направления, которые интересны нам самим как вузу. Я уже называла эти цифры – это выплаты за диссертации по 250 и 500 тысяч рублей. И это идет в ту же самую копилку, то есть в достижение показателей 200 % в среднем.
– Как бы там ни было, общий вектор изменений – все же в лучшую сторону. Меняется действительность, а вместе с ней и отношение – к науке, к бизнесу, к тому, каким мы хотим видеть будущее. И самые продвинутые предприятия вкладывают деньги как в технологии, так и в обучение своих сотрудников. Поощряют получение научных степеней.
– Да, это так. У нас в аспирантуре много известных имен – глав крупных сельскохозяйственных предприятий.
– Они по-настоящему учатся или просто имеют целью получение степени, чтобы написать ее на визитке?
– По-настоящему.
– Знаю, что ветеринарные клиники испытывают острый дефицит кадров. Вы обучаете только тех, кто потом будет работать в сельском хозяйстве и животноводстве, или у вас можно стать ветеринаром, который будет лечить кошек, собак и хомяков?
– Я не знаю, откуда такое мнение, что мы готовим специалистов только для крупного рогатого скота и свиней. Ничего подобного. Мы плотно взаимодействуем с Челябинской ветеринарной станцией, наши ребята проходят у них практику, и в вузе есть небольшая ветеринарная клиника, куда местные жители привозят на лечение своих животных. Это ни в коем случае не зарабатывание денег – это практические занятия, на которых студенты под председательством профессора лечат подопечных.
– «Тренируются на кошках»?))
– Да. У нас есть курсы дополнительного образования по грумингу, где ребята учатся стричь животных, делать прически… Помимо этого мы формируем рабочие программы, которые интересны для предприятий, и обучаем по ним студентов.
– А есть предприятия, которые финансируют обучение некоторых студентов? Целевой набор.
– Есть предприятия, которые совместно с главами районов заключают целевой договор. по нему студенты учатся, а потом возвращаются обратно. Есть еще, как мы их называем, платные целевые места – это когда абитуриент заключает договор с предприятием, которое оплачивает его обучение.
В 2021 году по целевым направлениям на очную форму обучения мы приняли пять человек, на заочную – девятнадцать.
– Какие точки роста для сельского хозяйства вы видите сегодня?
– Я не работала при Советском Союзе, но знаю, что тогда на земле было больше работающих специалистов. Хотелось бы, чтобы сейчас было так же, чтобы кадры ехали в села, поэтому нужно поддерживать программы для развития сельского хозяйства.
– То есть точка роста вашего университета – это развитие самого села?
– Да. Если село будет развиваться, то будем развиваться и мы, потому что возрастет потребность в кадрах.
– Когда мы с вами встретились две недели назад, я с удивлением услышала, что идут разговоры о цифровизации в сельском хозяйстве. Что вы собираетесь цифровизировать?
– В этом году все вузы Челябинской области участвовали в гранте. Его заявителем был ЮУрГУ, а мы пошли как вузы-партнеры. Суть программы была во внедрении в образование искусственного интеллекта. Когда нас собрал Шестаков, он отметил: «Я не понимаю, как вы будете внедрять искусственный интеллект в сельское хозяйство… Вы должны придумать это сами».
С 2022 года мы планируем набирать группы по пятнадцать человек по применению искусственного интеллекта в агроинженерии. Возможно, это будет складирование растениеводческой продукции. Наши специалисты работают в этом направлении, а преподавателей мы уже отправили на обучение. Посмотрим, что из этого получится.
Развитие цифровизации и искусственного интеллекта все равно когда-нибудь будет, ведь уже сейчас есть умная техника. Мы были на Всероссийском дне поля в Екатеринбурге, где видели комбайн, который никем не управляется. Его заводят, он сам рисует карту, как ему ездить, и начинает работать. То есть мы все равно когда-нибудь к этому придем.
– Какими нововведениями планируете нас удивлять в 2022 году?
– Если все будет хорошо, то мы запустим кафедру бройлерного птицеводства, будем готовить специалистов и развиваться в научном направлении, начнем работу на яйцах «Смена-9», подпишем договор с «Ариантом» и будем продолжать развивать генетику в свиноводстве. Это то, что касается Троицкой площадки. В Челябинске мы сейчас планируем взаимодействие с ЧКЗ – запуск инжинирингового центра, то есть будем готовить конструкторов.
В селе Миасском у нас уже есть один внедренный в производство сорт ячменя – голозерный. Мы хотим создать лабораторию, чтобы разрабатывать там другие сорта. Конечно, это будет не только в 2022 году, чтобы вывести что-то новое, нужно не менее пяти лет. Это наши основные проекты. Ну и, конечно, будут еще нововведения с образовательной точки зрения: запуск магистратуры по искусственному интеллекту, создание студенческого пресс-центра, своего телевидения (чтобы оно было на три института), внедрение новой программы по воспитательной работе. Еще есть такая идея – открыть на Челябинской и Миасской площадках среднее профессиональное образование. Не знаю, успеем ли мы это воплотить за 2022 год, но в дальнейшем – точно. В ближайшие пять лет планируем запустить генетическую лабораторию.
– Сколько сейчас сотрудников и студентов по всем трем институтам?
– Всего у нас 602 штатные единицы, 300 из них – педагоги. В Программе аграрного образования, которую разработало Министерство сельского хозяйства РФ, есть непрофильные услуги, которые мы должны передавать на аутсорсинг. Поэтому у нас в вузе выведены охрана и клининг. Если бы мы этого не сделали, штат был бы около 900–950 человек.
Студентов – 5 980 человек. У нас обучаются иностранные граждане из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Украины и Германии, а также в 2020 году впервые по дополнительным программам обучались студенты из Индонезии, Зимбабве, Гвинеи, Афганистана, Египта и Йемена.
– В 2021-м набор состоялся так, как вы хотели?
– Да, причем сразу и в полном объеме, дополнительный набор мы не объявляли. ///