Uno. Юбилейный номер
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
«Первым делом – самолеты!» – еще более полувека назад утверждал Леонид Утесов. Небо. Прекрасное, вечное и безмолвно зовущее. Так и видится образ летчика, бороздящего стратосферу. Но, спустившись на землю с романтических облаков, обнаружим: первым делом – радионавигация. Маяки, пеленгаторы, блоки управления связью… Звучит прозаично, но без систем управления воздушным движением самолет – военный или гражданский – рискует промахнуться мимо взлетно-посадочной полосы или потерять ориентацию в пространстве. Навигационная аппаратура, от которой зависит безопасность полетов, создается годами, но как и чьими трудами – мало кто знает. Мы с удовольствием исправляем этот недочет с помощью Александра Долматова, генерального директора НПО «РТС». Эта компания производит наземное радиооборудование для аэродромов магистральных и местных линий, представляя сложную, интересную и перспективную сферу. Наше интервью – о людях, технике, конкуренции, государственном капитализме и компетенциях России на мировом рынке.
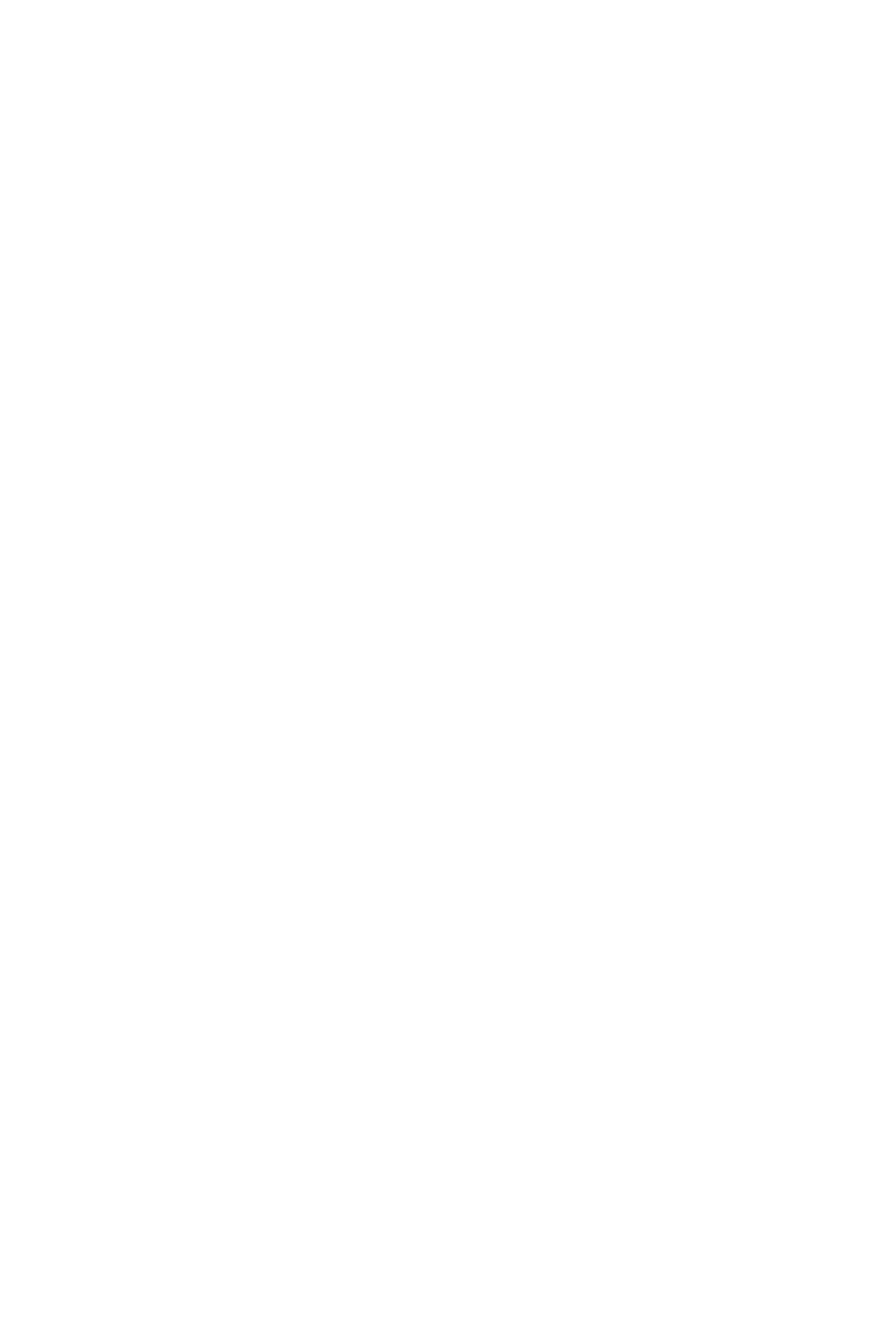
Производство авиационного радиооборудования – закрытая область со сложным порогом входа. Нужно не только хорошо разбираться в узкой сфере приборостроения, но и иметь достаточно средств и времени, когда создается продукт, и этот срок иногда достигает десятилетий. Доказывать миру свою состоятельность придется, и получив результат. Так вышло и с НПО «РТС», возникшим в 2003 году из группы специалистов, разработчиков систем радиотехнического обеспечения полетов. В противовес устаревшему, требующему существенных эксплуатационных расходов метрологическому и навигационному оборудованию челябинские инженеры предложили собственные решения: сначала – измерительную аппаратуру с удобным интерфейсом и минимальными габаритами, затем – «Комплекс-734», полноценный набор инструментов посадки и навигации.
– Александр, как вы чувствуете себя в новых условиях?
– Уверенно сказать, в каком состоянии находится компания, из-за действия инерции сложно: то, к чему мы готовимся, еще не настало. Есть ряд проектов в работе, планы, договоренности. Де-факто их пока никто не отменял, и мы живем надеждой, что так или иначе переживем новые времена.
– Что происходит сейчас в авиации?
– Из всех кризисов, случавшихся в нашей стране за последние двадцать лет, нынешний непосредственно задел авиацию. И это не могло не отразиться на нас – количество заказов внутри страны сократилось. Но остальной мир потихоньку начинает «оттаивать», появляются зарубежные проекты. Времена пандемии прошли, отложенный спрос никуда не деть. На внутреннем рынке все очень сложно, но на внешнем есть чем заниматься. До ковида мы много внимания уделяли потенциальным заказчикам из других стран, с тех пор у нас остались и контакты, и репутация. Поэтому сейчас в каком-то смысле нам проще, чем тем, кто работал только в России.
– То, что Россия стала персоной нон грата на международной арене, вам не мешает?
– Это, безусловно, имеет свое отражение, но технические и отраслевые специалисты стараются держаться подальше от политики, поэтому пока мы взаимодействуем со всем миром. Нам приходят заказы. Из наших зарубежных партнеров или просто друзей-знакомых никто не отвернулся. Продолжаем поддерживать отношения, надеюсь, так будет и дальше.
– Можете страны назвать?
– Европа, Америка, латиноамериканские и азиатские страны. Мы со всеми ровно общаемся. Другое дело, что в некоторых проектах из-за большого давления на политическом уровне заказчик взял паузу до разрешения ситуации. Но открыто никто не отказывает. Живем каждый день по принципу: «Делай что должен, и будь что будет».
– Как в центре пылевой бури?
– По большому счету – да. Потому что сейчас сложно прогнозировать дальше завтрашнего дня. Можно ничего не делать, но это было бы скучно и не совсем верно для предпринимателя. Если не включаться в моральную сторону происходящего, то для предпринимателя это один из серьезнейших вызовов и проверка на прочность – выживание в очень жестких турбулентных условиях. В любой сфере наша основная профессиональная задача – что-то предпринимать. Настали времена, когда предпринимать нужно каждый день, каждую минуту, чтобы продолжать создавать свой продукт и идти к задуманным целям. Я бы уже убрал слово «кризис» из нашего лексикона, потому что оно не отражает реальность. Мы все живем в быстро меняющемся мире – как с технологической, так и с политической и с военной точки зрения. Все процессы ускоряются. Рано или поздно это во что-то выльется, но мы не знаем, когда и во что. Поэтому должны научиться приспосабливаться к тому, что есть.
– Над какими проектами вы сейчас работаете?
– В 2017 году на базе нашей дочерней компании «Курсир» (резидента Фонда «Сколково») мы начали развивать направление, которое долго вызывало непонимание у наших и иностранных авиационных властей. Но в какой-то момент нам все же удалось доказать состоятельность идеи. В чем суть? Оборудование на аэродромах, как и любое другое, требует регулярной проверки независимыми средствами на соответствие положенным ему параметрам. Для этого раз или два в год в каждый аэропорт прилетает большой, специально оборудованный самолет и проверяет все наземное оборудование. В случае обнаружения неполадок начинаются ремонт, настройка. Но эта процедура очень дорого стоит. Во-первых, платим за самолет, напичканный дорогим оборудованием, во-вторых, за работу пилотов и техников, в-третьих, за топливо. В итоге час такой услуги стоит порядка 200–300 тысяч рублей, а для облета всего одного типа оборудования требуется до нескольких десятков часов. Это колоссальные цифры. Наша идея состоит в том, что необходимую для проверки технику сейчас можно делать очень компактной и размещать ее на борту не большого судна, а беспилотника. Задать аппарату определенную программу действий, чтобы он в автоматическом режиме осуществил облет и выдал оператору данные. Таким образом мы значительно снижаем стоимость процедуры. Более того, ее можно будет проводить так часто, как потребуется, – едва возникнет сомнение в работоспособности оборудования. Кроме снижения расходов и повышения уровня безопасности полетов, это также позволит снизить количество выбросов СО2. О них сейчас много с разных трибун говорят, и это не пустой звук.
Но это новая технология, а в авиации даже очевидно хорошие инновации не применяют, пока они не будут исследованы со всех сторон. Последние годы мы собирали необходимую статистику, и те же процессы начались в других странах мира, и сейчас эта технология активно начинает завоевывать рынки.
– То есть не только вы додумались до такой технологии?
– Да, несколько компаний уже идут по этому пути. Как только технология показала себя с положительной стороны, отношение авиационных властей в разных странах мира начало меняться. Испания уже организовала первый коммерческий тендер. Это одна из ведущих авиационных держав, там силен блок, связанный с наукой и технологиями в этой сфере. А еще у испанских властей одни из самых жестких требований к оборудованию. И когда мы вышли на этот тендер, нам пришлось в том числе соперничать с аналогичной нам местной компанией, получающей гранты от государства. Но, несмотря на политическое отторжение, которое в Европе, безусловно, есть ко всем русским компаниям, и внутренние жесткие требования заказчика, нам удалось выиграть тендер и по техническим, и по ценовым параметрам.
– Не представляю, как такое возможно. Ставлю себя на место заказчика: приходит компания, которую я не знаю, из города Челябинска, тоже вряд ли известного. Вы же для них совсем темная лошадка.
– Авиационный мир тесен, так что они должны иметь о нас представление. А еще это новая технология, речи о том, чтобы заместить старую, пока не идет, Рубикон не перейден, все можно откатить назад. Поэтому можно себе позволить провести такого рода эксперимент. Авиация – несколько наднациональное образование, в том числе в умах людей, принимающих решения. Они понимают, что, двигая технологии вперед, они повышают безопасность полетов и в своей стране, и во всем мире. Кто-то должен идти по этому пути, набивать шишки. А мы ждем в этом году еще несколько аналогичных тендеров. И пока только у нас в портфолио есть соответствующие конкурсные процедуры, что дает нам конкурентное преимущество.
– Но выиграть мало…
– Все в наших руках. Это управляемый процесс, и мы достаточно давно в авиационной сфере, чтобы ясно понимать, что делать дальше.
– Вы не единственные в России производите наземное радиооборудование для аэродромов?
– Не единственные. Когда рушился Советский Союз, заводы распадались на осколки, и на их базе выросли новые предприятия, которые работают и сейчас. Традиционно Челябинск обладает большими компетенциями в создании систем навигации и посадки. А что касается зарубежных компаний, как правило, стоимость их оборудования примерно такая же – за счет массовости, отточенности технологических процессов, но с точки зрения сервиса западные игроки на порядок дороже российских. И на этом фоне мы успешно конкурируем, особенно в странах с ограниченным бюджетом, где нет задачи купить что-то непременно у пафосной марки. На бытовом уровне это можно сравнить с автомобилестроением: и «мерседес», и «Фольксваген» надежны, однако стоимость владения этими автомобилями неодинакова в силу престижа.
– Системы аэронавигации в аэропортах России в основном зарубежные?
– В аэропортах России практически нет иностранной аппаратуры. Аэропорт и его инфраструктура имеют стратегическое значение: в мирное время они считаются гражданскими, но как только наступает военное, переходят в ведение Министерства обороны. Они априори должны принадлежать государству. И Россия в этом отношении не уникальна.
– Но вы же продаете оборудование за рубеж.
– Продаем – в страны, где нет собственных компетенций. Покупателем чаще всего выступают аффилированные с государством структуры. Основная масса производителей сосредоточена в Европе, есть компании в Америке, Японии, Южной Корее, Китай пытается что-то производить… Аппаратура действительно сложная, нужны устойчивые традиции и большой научный потенциал. На рынке массовой электроники – компьютеры, телефоны – Россия свои позиции утратила, и вряд ли мы сможем восстановить их в ближайшее время. Не потому, что не хватает мозгов: нет достаточной технологической базы и культуры разработки и производства – они же формируются годами. Но специфические отрасли – ракето-, авиастроение – классически мощно развивались в Советском Союзе. Эти навыки мы сохранили. И, на мой взгляд, единственный шанс России присутствовать на мировом рынке – лидировать в таких сферах.
– В стратегию развития компании до 2020 года вы заложили 30%-ную долю внешнеэкономической деятельности. Сейчас сколько вы отводите?
– Мы достигли этого процента в 2019 году. Но затем случилась пандемия, и если в 2020-м мы еще выполняли какие-то контракты по инерции, то в прошлом году их количество упало до нуля. Но мы все же считаем экспортную составляющую стратегическим направлением в развитии, поэтому в прошлом году сформировали отдел, занимающийся только работой на экспорт: поиском заказчиков, контактами с ними, отработкой технической документации… Это не один и не два человека, а целая группа, которая занимается иностранными заказчиками с утра до вечера. И это начинает приносить свои плоды.
– А как в это время обстояли дела с российскими заказами?
– Россия – неотъемлемая часть мирового рынка. После того как почти все международные перевозки упали до нуля, доходы по провайдеру авиационных услуг по всему миру резко сократились. Наша страна не стала исключением. Плюс лишилась роялти за пролет над Россией от Европы до Азии. Это существенная статья дохода. Поэтому бюджеты резко сократились, и это отразилось на капитальных затратах заказчика, на нашем портфеле заказов. Эти два года были, наверное, самыми тяжелыми в истории компании. Но нам хватило «подкожного жира», чтобы просуществовать это время. Затем, примерно с середины 2021 года и до 24 февраля этого, в России количество международных рейсов росло, даже немного превышало допандемийный уровень. Сейчас уже нет.
– На что вы потратили это время затишья?
– Сделали много внутренней работы. Основные ресурсы направили на новые разработки и доработку уже имеющегося оборудования. В результате в конце прошлого года провели большой объем сертификационных работ. Практически заново сертифицировали все наше оборудование в Росавиации, что очень энерго-, денежно- и времязатратно. Теперь можем сосредоточиться на производственных задачах.
– Каким требованиям должна отвечать современная навигационная аппаратура?
– В отличие от производства массовой электроники дизайн здесь второстепенен. Габариты тоже – на летном поле места много.
Это оборудование связано с жизнью людей, поэтому главный показатель – надежность. Производный – стоимость использования оборудования. Регламентированный срок его эксплуатации составляет пятнадцать лет, но можно найти образцы, функционирующие и двадцать, и тридцать. Они все еще достаточно надежны, хоть и требуют периодического ремонта, и даже принципиально ничем не отличаются от сегодняшних. С момента появления первой инструментальной системы посадки мало что изменилось. Авиация – самая консервативная область. Самолеты и аппаратура стоят дорого, требования, которые к ним предъявляются, проходят тщательную обработку. Здесь, как у саперов, ошибаешься лишь один раз. Физику не обманешь и не отменишь. Конечно, объем аппаратуры можно уменьшать: технологически систему посадки давно можно было сделать размером с телефон, но над телефоном работает полмира, а у нас штучное производство.
– Насколько я знаю, вы сертифицировали свою систему посадки по категории IIIB. Это значит, что оборудование обеспечивает посадку воздушных судов при видимости на взлетно-посадочной полосе не менее пятидесяти метров и при высоте принятия решений не менее пятнадцати. Это же очень мало! Моргнул – и ты в лепешку. Неужели такие требования были и тридцать лет назад?
– Да, требования к наземной аппаратуре высоки с первых дней гражданской авиации. Плюс сегодня они учитывают рост интенсивности полетов: большая часть выпущенных за всю историю самолетов сейчас эксплуатируется, да еще появляются новые. Непохоже на другие отрасли, где сделали новую машину, а старую отдали на утилизацию. Управлять погодой мы пока не научились, и видимость – самый критичный показатель, но и он не должен влиять на безопасность людей. В допандемийные времена в Америке в воздухе находились порядка шести тысяч самолетов одновременно – впечатляет. В России разве что сотни. Такой ритм диктует четкие правила: если борт взлетел, он обязательно должен сесть в пункте назначения в указанное время.
– Вектор развития отрасли задают как раз американцы?
– Да, все новые тенденции возникают в США. С шестью тысячами самолетов и не может быть по-другому. Попасть на американский рынок, быть признанным там – наверное, вершина карьеры в нашей отрасли.
– В чем особенность вашей компании? За счет чего конкурируете?
– Казалось бы, у всех клиентов в нашей отрасли одна и та же задача – посадить самолет. Но в реальности задачи отличаются. Аэропорты находятся в разных климатических условиях, в разной местности, влияющей на распространение радиоволн, – это нужно учитывать при проектировании аэродрома и поставке аппаратуры. Обычно клиент обращается за комплексным решением вопроса. Поэтому преимущества оборудования – в профессиональной адаптации под конкретные условия. Мировая тенденция ведет к постоянному усложнению аппаратуры, и образования эксплуатантов на местах уже не всегда хватает. Если раньше оборудование было аналоговое (что-то вышло из строя, смотришь, какой элемент сгорел, и покупаешь новый), то сейчас все завязано на программном обеспечении, сложных платах, которые в бытовых условиях не починишь. Поэтому важны эксплуатационные характеристики: удобный интерфейс, отсутствие необходимости менять детали… Из плоскости непосредственных технических характеристик мы переходим в плоскость удовлетворения потребностей. Сейчас модно говорить о сервисной модели, и это небезосновательно: в современном мире технологии стали доступными – начинается борьба за клиента с точки зрения предоставления более качественных услуг.
– А расскажите о самом необычном заказе, над которым вы работали?
– Наверное, это поставки нашего оборудования в Боливию. Во-первых, перед нами встала проблема логистики – это очень далеко, другое полушарие. Во-вторых, Боливия – горная страна, четыре тысячи метров над уровнем моря. И это накладывает определенные технические и человеческие сложности. Хоть мы и живем в Уральских горах, некоторых сотрудников настигла горная болезнь, потребовалась особая подготовка. Осенью 2019-го мы выполнили этот проект, а следующей весной ушли на изоляцию. Сейчас ведем с боливийской стороной переговоры по дальнейшему сотрудничеству.
– Пять лет назад вы рассказывали о нехватке сотрудников. О том, что в год берете лишь одного-двух выпускников ЮУрГУ, которые хотели бы работать по специальности и обладали бы определенными способностями, и таким количеством человек прорывную технологию не создать. Удалось ли вам решить проблему за эти годы?
– Жизнь не такая линейная, как предполагаешь. Человек хитрее – ко всему приспосабливается. Вот и нам удалось – создали же мы прорывные технологии, в том числе связанные с радиоизмерениями с помощью беспилотников. Возвращаясь к вопросу кадров – ничего не поменялось, только усугубилось. Приходится адаптироваться, брать людей из других регионов, учить их. Повышать нашу внутреннюю эффективность, выполнять задачи за счет автоматизации, привлечения сторонних организаций. Безвыходных ситуаций не бывает.
– То есть вам удалось решить задачу не за счет увеличения количества кадров. Тем не менее – сколько привлекли специалистов? Где удалось их взять?
– В какой-то момент мы достигли своего порога численности, плюс два пандемийных года не позволяли нам расширяться чисто по экономическим соображениям. Говорить сейчас о том, сколько человек взяли, не совсем корректно: в ходе естественной текучки одни увольнялись, другие приходили. Но острой необходимости в людях не было, потому что отсутствовала взрывная необходимость увеличения производственных мощностей. За счет паузы, связанной с пандемией, мы уже имеющимся штатом делали разработки, занимались сертификацией. В обычное время этого было бы недостаточно, но сейчас хватило.
– А вообще ситуация на рынке труда изменилась? Стало больше специалистов?
– К старым проблемам прибавилась новая – большие столичные компании «пылесосят» всех более-менее хороших специалистов в регионах. Пандемия доказала, что необязательно всем ехать в Москву, чтобы там работать. И потому крупный бизнес оттуда открывает удаленные офисы во всех областях страны. Это большой плюс для людей – они начинают получать московские зарплаты. Но такие нишевые компании, как мы, вынуждены конкурировать, а возможностей не всегда хватает. Потому что одно дело – массовый рынок, другое – узкоспециализированный.
– Сколько вы вкладываете в научно-исследовательские работы?
– На протяжении четырнадцати лет всю прибыль мы вкладывали в развитие. Мне трудно назвать абсолютные цифры: все складывалось в одну корзину и не изымалось. Полагаю, это были большие инвестиции. Пожалуй, за эти годы мы могли бы стать очень богатыми людьми, но нашей команде важнее вырасти и стать кем-то значимым в этой стране, в этом мире, в этой отрасли. До сих пор мы развивались на собственные средства, по большому счету нам не нужна была помощь ни банков, ни государства.
– Как балансировать между инновациями и коммерческой выгодой? Ведь можно увлечься наукой и забыть о реальной жизни.
– Инновация по определению – новшество, показавшее свою эффективность. Любое эффективное предприятие – инновационное, даже детский сад. И любое предприятие, желающее развиваться, по умолчанию должно быть инновационным, а дальше конкуренция расставит все на свои места. Я верю в конкуренцию. На конкурентных рынках будут инновации, на неконкурентных – борьба за административные ресурсы со всеми вытекающими негативными последствиями, о которых говорят даже высокопоставленные чиновники. Мы построили не капитализм, а госкапитализм: по данным ФАС, вклад государственных компаний в ВВП России вырос с 35 % в 2005 году до 70 % в 2015-м, и сейчас, думаю, ситуация та же. Никаких инноваций здесь не может быть априори. У малых предприятий нет шанса побороть большие, они не могут играть по тем же правилам – это замкнутый круг. Пусть большие умы в Москве думают, как вывести экономику из пике. К счастью для человека, идеи и знания свободно перетекают по миру. У нас уже была волна утечки мозгов, как бы не получить следующую, когда в Китае студент приходит на работу и получает две-три тысячи долларов, а у нас средняя зарплата не дотягивает даже до тысячи. Недавно Китай был бедным и ездил к нам на заработки, а сейчас все наоборот. Вот они, реалии текущего дня. Российский народ – упертый, пока не доведешь до критического состояния, мы, как лягушки в сметане, сидим и ничего не понимаем.
– Приведу выдержку из Международной программы Фонда попечителей Московского государственного авиационного университета имени Циолковского: «Все большее различие в уровне технического оснащения в России и западных странах становится преградой на пути к гармонизации и интеграции аэронавигационных систем в рамках европейского региона». Оцените состояние российской науки в вашей сфере.
– Не хочется говорить, что мы сильно отстали, но, к сожалению, это правда. Мы давно кричим, что нам не нужна сырьевая экономика, но она до сих пор существует. До сих пор мы не стремились наращивать личную эффективность, эффективность предприятия и страны в целом. Поэтому иностранцы знают только про ракеты и нефтяные поля в Сибири. Зададимся вопросом: что Россия поставляет на мировой рынок? На бытовом уровне – ничего. Мы строим ядерные реакторы, запускаем ракеты, но это очень маленькая часть жизни, и на мировом рынке Россия выглядит мелко. Даже близкие нам страны предпочитают оборудование нероссийского производства. Да что греха таить, мы сами выбираем импортное. Сейчас сознание начинает меняться: люди «наелись» импортных товаров, поняли, что не все так сказочно, как описывается в проспектах, есть еще и отечественные производители, которые тоже что-то умеют. Но скепсис пока присутствует, и нам его нужно преодолеть. Только в этом случае смогут развиваться и наука, и образование, и предприятия.
– Что необходимо для ликвидации этого разрыва? Совместные усилия государства и бизнеса? Чья инициатива тогда должна быть первичной?
Каждый должен делать свое дело. Задача бизнеса – зарабатывать деньги и эффективно тратить ресурсы. Задача государства – обучать и устанавливать правила. Чтобы сократить отставание, оно должно создавать условия, формировать определенную налоговую и таможенную политику. Например, если технологии в основном привозятся с Запада, очевидно, что это стоит денег, плюс требуется время, чтобы они стали что-то приносить. Для этого нужны не льготы – они расслабляют, а налоговые преференции. Но политика у нас такова, что заниматься бизнесом невыгодно. Когда каждый день решаешь покупать какое-то оборудование, инвестировать туда или в иное место – сверяешь доходность и риски. И порой работаешь только потому, что тебе это нравится, просто чтобы быть чем-то занятым. С точки зрения бизнеса это неправильно: ему нужен холодный расчет, ведущий к определенному доходу. Другого мерила успешности, кроме прибыли для предприятия и зарплаты для человека, нет. ///
– Александр, как вы чувствуете себя в новых условиях?
– Уверенно сказать, в каком состоянии находится компания, из-за действия инерции сложно: то, к чему мы готовимся, еще не настало. Есть ряд проектов в работе, планы, договоренности. Де-факто их пока никто не отменял, и мы живем надеждой, что так или иначе переживем новые времена.
– Что происходит сейчас в авиации?
– Из всех кризисов, случавшихся в нашей стране за последние двадцать лет, нынешний непосредственно задел авиацию. И это не могло не отразиться на нас – количество заказов внутри страны сократилось. Но остальной мир потихоньку начинает «оттаивать», появляются зарубежные проекты. Времена пандемии прошли, отложенный спрос никуда не деть. На внутреннем рынке все очень сложно, но на внешнем есть чем заниматься. До ковида мы много внимания уделяли потенциальным заказчикам из других стран, с тех пор у нас остались и контакты, и репутация. Поэтому сейчас в каком-то смысле нам проще, чем тем, кто работал только в России.
– То, что Россия стала персоной нон грата на международной арене, вам не мешает?
– Это, безусловно, имеет свое отражение, но технические и отраслевые специалисты стараются держаться подальше от политики, поэтому пока мы взаимодействуем со всем миром. Нам приходят заказы. Из наших зарубежных партнеров или просто друзей-знакомых никто не отвернулся. Продолжаем поддерживать отношения, надеюсь, так будет и дальше.
– Можете страны назвать?
– Европа, Америка, латиноамериканские и азиатские страны. Мы со всеми ровно общаемся. Другое дело, что в некоторых проектах из-за большого давления на политическом уровне заказчик взял паузу до разрешения ситуации. Но открыто никто не отказывает. Живем каждый день по принципу: «Делай что должен, и будь что будет».
– Как в центре пылевой бури?
– По большому счету – да. Потому что сейчас сложно прогнозировать дальше завтрашнего дня. Можно ничего не делать, но это было бы скучно и не совсем верно для предпринимателя. Если не включаться в моральную сторону происходящего, то для предпринимателя это один из серьезнейших вызовов и проверка на прочность – выживание в очень жестких турбулентных условиях. В любой сфере наша основная профессиональная задача – что-то предпринимать. Настали времена, когда предпринимать нужно каждый день, каждую минуту, чтобы продолжать создавать свой продукт и идти к задуманным целям. Я бы уже убрал слово «кризис» из нашего лексикона, потому что оно не отражает реальность. Мы все живем в быстро меняющемся мире – как с технологической, так и с политической и с военной точки зрения. Все процессы ускоряются. Рано или поздно это во что-то выльется, но мы не знаем, когда и во что. Поэтому должны научиться приспосабливаться к тому, что есть.
– Над какими проектами вы сейчас работаете?
– В 2017 году на базе нашей дочерней компании «Курсир» (резидента Фонда «Сколково») мы начали развивать направление, которое долго вызывало непонимание у наших и иностранных авиационных властей. Но в какой-то момент нам все же удалось доказать состоятельность идеи. В чем суть? Оборудование на аэродромах, как и любое другое, требует регулярной проверки независимыми средствами на соответствие положенным ему параметрам. Для этого раз или два в год в каждый аэропорт прилетает большой, специально оборудованный самолет и проверяет все наземное оборудование. В случае обнаружения неполадок начинаются ремонт, настройка. Но эта процедура очень дорого стоит. Во-первых, платим за самолет, напичканный дорогим оборудованием, во-вторых, за работу пилотов и техников, в-третьих, за топливо. В итоге час такой услуги стоит порядка 200–300 тысяч рублей, а для облета всего одного типа оборудования требуется до нескольких десятков часов. Это колоссальные цифры. Наша идея состоит в том, что необходимую для проверки технику сейчас можно делать очень компактной и размещать ее на борту не большого судна, а беспилотника. Задать аппарату определенную программу действий, чтобы он в автоматическом режиме осуществил облет и выдал оператору данные. Таким образом мы значительно снижаем стоимость процедуры. Более того, ее можно будет проводить так часто, как потребуется, – едва возникнет сомнение в работоспособности оборудования. Кроме снижения расходов и повышения уровня безопасности полетов, это также позволит снизить количество выбросов СО2. О них сейчас много с разных трибун говорят, и это не пустой звук.
Но это новая технология, а в авиации даже очевидно хорошие инновации не применяют, пока они не будут исследованы со всех сторон. Последние годы мы собирали необходимую статистику, и те же процессы начались в других странах мира, и сейчас эта технология активно начинает завоевывать рынки.
– То есть не только вы додумались до такой технологии?
– Да, несколько компаний уже идут по этому пути. Как только технология показала себя с положительной стороны, отношение авиационных властей в разных странах мира начало меняться. Испания уже организовала первый коммерческий тендер. Это одна из ведущих авиационных держав, там силен блок, связанный с наукой и технологиями в этой сфере. А еще у испанских властей одни из самых жестких требований к оборудованию. И когда мы вышли на этот тендер, нам пришлось в том числе соперничать с аналогичной нам местной компанией, получающей гранты от государства. Но, несмотря на политическое отторжение, которое в Европе, безусловно, есть ко всем русским компаниям, и внутренние жесткие требования заказчика, нам удалось выиграть тендер и по техническим, и по ценовым параметрам.
– Не представляю, как такое возможно. Ставлю себя на место заказчика: приходит компания, которую я не знаю, из города Челябинска, тоже вряд ли известного. Вы же для них совсем темная лошадка.
– Авиационный мир тесен, так что они должны иметь о нас представление. А еще это новая технология, речи о том, чтобы заместить старую, пока не идет, Рубикон не перейден, все можно откатить назад. Поэтому можно себе позволить провести такого рода эксперимент. Авиация – несколько наднациональное образование, в том числе в умах людей, принимающих решения. Они понимают, что, двигая технологии вперед, они повышают безопасность полетов и в своей стране, и во всем мире. Кто-то должен идти по этому пути, набивать шишки. А мы ждем в этом году еще несколько аналогичных тендеров. И пока только у нас в портфолио есть соответствующие конкурсные процедуры, что дает нам конкурентное преимущество.
– Но выиграть мало…
– Все в наших руках. Это управляемый процесс, и мы достаточно давно в авиационной сфере, чтобы ясно понимать, что делать дальше.
– Вы не единственные в России производите наземное радиооборудование для аэродромов?
– Не единственные. Когда рушился Советский Союз, заводы распадались на осколки, и на их базе выросли новые предприятия, которые работают и сейчас. Традиционно Челябинск обладает большими компетенциями в создании систем навигации и посадки. А что касается зарубежных компаний, как правило, стоимость их оборудования примерно такая же – за счет массовости, отточенности технологических процессов, но с точки зрения сервиса западные игроки на порядок дороже российских. И на этом фоне мы успешно конкурируем, особенно в странах с ограниченным бюджетом, где нет задачи купить что-то непременно у пафосной марки. На бытовом уровне это можно сравнить с автомобилестроением: и «мерседес», и «Фольксваген» надежны, однако стоимость владения этими автомобилями неодинакова в силу престижа.
– Системы аэронавигации в аэропортах России в основном зарубежные?
– В аэропортах России практически нет иностранной аппаратуры. Аэропорт и его инфраструктура имеют стратегическое значение: в мирное время они считаются гражданскими, но как только наступает военное, переходят в ведение Министерства обороны. Они априори должны принадлежать государству. И Россия в этом отношении не уникальна.
– Но вы же продаете оборудование за рубеж.
– Продаем – в страны, где нет собственных компетенций. Покупателем чаще всего выступают аффилированные с государством структуры. Основная масса производителей сосредоточена в Европе, есть компании в Америке, Японии, Южной Корее, Китай пытается что-то производить… Аппаратура действительно сложная, нужны устойчивые традиции и большой научный потенциал. На рынке массовой электроники – компьютеры, телефоны – Россия свои позиции утратила, и вряд ли мы сможем восстановить их в ближайшее время. Не потому, что не хватает мозгов: нет достаточной технологической базы и культуры разработки и производства – они же формируются годами. Но специфические отрасли – ракето-, авиастроение – классически мощно развивались в Советском Союзе. Эти навыки мы сохранили. И, на мой взгляд, единственный шанс России присутствовать на мировом рынке – лидировать в таких сферах.
– В стратегию развития компании до 2020 года вы заложили 30%-ную долю внешнеэкономической деятельности. Сейчас сколько вы отводите?
– Мы достигли этого процента в 2019 году. Но затем случилась пандемия, и если в 2020-м мы еще выполняли какие-то контракты по инерции, то в прошлом году их количество упало до нуля. Но мы все же считаем экспортную составляющую стратегическим направлением в развитии, поэтому в прошлом году сформировали отдел, занимающийся только работой на экспорт: поиском заказчиков, контактами с ними, отработкой технической документации… Это не один и не два человека, а целая группа, которая занимается иностранными заказчиками с утра до вечера. И это начинает приносить свои плоды.
– А как в это время обстояли дела с российскими заказами?
– Россия – неотъемлемая часть мирового рынка. После того как почти все международные перевозки упали до нуля, доходы по провайдеру авиационных услуг по всему миру резко сократились. Наша страна не стала исключением. Плюс лишилась роялти за пролет над Россией от Европы до Азии. Это существенная статья дохода. Поэтому бюджеты резко сократились, и это отразилось на капитальных затратах заказчика, на нашем портфеле заказов. Эти два года были, наверное, самыми тяжелыми в истории компании. Но нам хватило «подкожного жира», чтобы просуществовать это время. Затем, примерно с середины 2021 года и до 24 февраля этого, в России количество международных рейсов росло, даже немного превышало допандемийный уровень. Сейчас уже нет.
– На что вы потратили это время затишья?
– Сделали много внутренней работы. Основные ресурсы направили на новые разработки и доработку уже имеющегося оборудования. В результате в конце прошлого года провели большой объем сертификационных работ. Практически заново сертифицировали все наше оборудование в Росавиации, что очень энерго-, денежно- и времязатратно. Теперь можем сосредоточиться на производственных задачах.
– Каким требованиям должна отвечать современная навигационная аппаратура?
– В отличие от производства массовой электроники дизайн здесь второстепенен. Габариты тоже – на летном поле места много.
Это оборудование связано с жизнью людей, поэтому главный показатель – надежность. Производный – стоимость использования оборудования. Регламентированный срок его эксплуатации составляет пятнадцать лет, но можно найти образцы, функционирующие и двадцать, и тридцать. Они все еще достаточно надежны, хоть и требуют периодического ремонта, и даже принципиально ничем не отличаются от сегодняшних. С момента появления первой инструментальной системы посадки мало что изменилось. Авиация – самая консервативная область. Самолеты и аппаратура стоят дорого, требования, которые к ним предъявляются, проходят тщательную обработку. Здесь, как у саперов, ошибаешься лишь один раз. Физику не обманешь и не отменишь. Конечно, объем аппаратуры можно уменьшать: технологически систему посадки давно можно было сделать размером с телефон, но над телефоном работает полмира, а у нас штучное производство.
– Насколько я знаю, вы сертифицировали свою систему посадки по категории IIIB. Это значит, что оборудование обеспечивает посадку воздушных судов при видимости на взлетно-посадочной полосе не менее пятидесяти метров и при высоте принятия решений не менее пятнадцати. Это же очень мало! Моргнул – и ты в лепешку. Неужели такие требования были и тридцать лет назад?
– Да, требования к наземной аппаратуре высоки с первых дней гражданской авиации. Плюс сегодня они учитывают рост интенсивности полетов: большая часть выпущенных за всю историю самолетов сейчас эксплуатируется, да еще появляются новые. Непохоже на другие отрасли, где сделали новую машину, а старую отдали на утилизацию. Управлять погодой мы пока не научились, и видимость – самый критичный показатель, но и он не должен влиять на безопасность людей. В допандемийные времена в Америке в воздухе находились порядка шести тысяч самолетов одновременно – впечатляет. В России разве что сотни. Такой ритм диктует четкие правила: если борт взлетел, он обязательно должен сесть в пункте назначения в указанное время.
– Вектор развития отрасли задают как раз американцы?
– Да, все новые тенденции возникают в США. С шестью тысячами самолетов и не может быть по-другому. Попасть на американский рынок, быть признанным там – наверное, вершина карьеры в нашей отрасли.
– В чем особенность вашей компании? За счет чего конкурируете?
– Казалось бы, у всех клиентов в нашей отрасли одна и та же задача – посадить самолет. Но в реальности задачи отличаются. Аэропорты находятся в разных климатических условиях, в разной местности, влияющей на распространение радиоволн, – это нужно учитывать при проектировании аэродрома и поставке аппаратуры. Обычно клиент обращается за комплексным решением вопроса. Поэтому преимущества оборудования – в профессиональной адаптации под конкретные условия. Мировая тенденция ведет к постоянному усложнению аппаратуры, и образования эксплуатантов на местах уже не всегда хватает. Если раньше оборудование было аналоговое (что-то вышло из строя, смотришь, какой элемент сгорел, и покупаешь новый), то сейчас все завязано на программном обеспечении, сложных платах, которые в бытовых условиях не починишь. Поэтому важны эксплуатационные характеристики: удобный интерфейс, отсутствие необходимости менять детали… Из плоскости непосредственных технических характеристик мы переходим в плоскость удовлетворения потребностей. Сейчас модно говорить о сервисной модели, и это небезосновательно: в современном мире технологии стали доступными – начинается борьба за клиента с точки зрения предоставления более качественных услуг.
– А расскажите о самом необычном заказе, над которым вы работали?
– Наверное, это поставки нашего оборудования в Боливию. Во-первых, перед нами встала проблема логистики – это очень далеко, другое полушарие. Во-вторых, Боливия – горная страна, четыре тысячи метров над уровнем моря. И это накладывает определенные технические и человеческие сложности. Хоть мы и живем в Уральских горах, некоторых сотрудников настигла горная болезнь, потребовалась особая подготовка. Осенью 2019-го мы выполнили этот проект, а следующей весной ушли на изоляцию. Сейчас ведем с боливийской стороной переговоры по дальнейшему сотрудничеству.
– Пять лет назад вы рассказывали о нехватке сотрудников. О том, что в год берете лишь одного-двух выпускников ЮУрГУ, которые хотели бы работать по специальности и обладали бы определенными способностями, и таким количеством человек прорывную технологию не создать. Удалось ли вам решить проблему за эти годы?
– Жизнь не такая линейная, как предполагаешь. Человек хитрее – ко всему приспосабливается. Вот и нам удалось – создали же мы прорывные технологии, в том числе связанные с радиоизмерениями с помощью беспилотников. Возвращаясь к вопросу кадров – ничего не поменялось, только усугубилось. Приходится адаптироваться, брать людей из других регионов, учить их. Повышать нашу внутреннюю эффективность, выполнять задачи за счет автоматизации, привлечения сторонних организаций. Безвыходных ситуаций не бывает.
– То есть вам удалось решить задачу не за счет увеличения количества кадров. Тем не менее – сколько привлекли специалистов? Где удалось их взять?
– В какой-то момент мы достигли своего порога численности, плюс два пандемийных года не позволяли нам расширяться чисто по экономическим соображениям. Говорить сейчас о том, сколько человек взяли, не совсем корректно: в ходе естественной текучки одни увольнялись, другие приходили. Но острой необходимости в людях не было, потому что отсутствовала взрывная необходимость увеличения производственных мощностей. За счет паузы, связанной с пандемией, мы уже имеющимся штатом делали разработки, занимались сертификацией. В обычное время этого было бы недостаточно, но сейчас хватило.
– А вообще ситуация на рынке труда изменилась? Стало больше специалистов?
– К старым проблемам прибавилась новая – большие столичные компании «пылесосят» всех более-менее хороших специалистов в регионах. Пандемия доказала, что необязательно всем ехать в Москву, чтобы там работать. И потому крупный бизнес оттуда открывает удаленные офисы во всех областях страны. Это большой плюс для людей – они начинают получать московские зарплаты. Но такие нишевые компании, как мы, вынуждены конкурировать, а возможностей не всегда хватает. Потому что одно дело – массовый рынок, другое – узкоспециализированный.
– Сколько вы вкладываете в научно-исследовательские работы?
– На протяжении четырнадцати лет всю прибыль мы вкладывали в развитие. Мне трудно назвать абсолютные цифры: все складывалось в одну корзину и не изымалось. Полагаю, это были большие инвестиции. Пожалуй, за эти годы мы могли бы стать очень богатыми людьми, но нашей команде важнее вырасти и стать кем-то значимым в этой стране, в этом мире, в этой отрасли. До сих пор мы развивались на собственные средства, по большому счету нам не нужна была помощь ни банков, ни государства.
– Как балансировать между инновациями и коммерческой выгодой? Ведь можно увлечься наукой и забыть о реальной жизни.
– Инновация по определению – новшество, показавшее свою эффективность. Любое эффективное предприятие – инновационное, даже детский сад. И любое предприятие, желающее развиваться, по умолчанию должно быть инновационным, а дальше конкуренция расставит все на свои места. Я верю в конкуренцию. На конкурентных рынках будут инновации, на неконкурентных – борьба за административные ресурсы со всеми вытекающими негативными последствиями, о которых говорят даже высокопоставленные чиновники. Мы построили не капитализм, а госкапитализм: по данным ФАС, вклад государственных компаний в ВВП России вырос с 35 % в 2005 году до 70 % в 2015-м, и сейчас, думаю, ситуация та же. Никаких инноваций здесь не может быть априори. У малых предприятий нет шанса побороть большие, они не могут играть по тем же правилам – это замкнутый круг. Пусть большие умы в Москве думают, как вывести экономику из пике. К счастью для человека, идеи и знания свободно перетекают по миру. У нас уже была волна утечки мозгов, как бы не получить следующую, когда в Китае студент приходит на работу и получает две-три тысячи долларов, а у нас средняя зарплата не дотягивает даже до тысячи. Недавно Китай был бедным и ездил к нам на заработки, а сейчас все наоборот. Вот они, реалии текущего дня. Российский народ – упертый, пока не доведешь до критического состояния, мы, как лягушки в сметане, сидим и ничего не понимаем.
– Приведу выдержку из Международной программы Фонда попечителей Московского государственного авиационного университета имени Циолковского: «Все большее различие в уровне технического оснащения в России и западных странах становится преградой на пути к гармонизации и интеграции аэронавигационных систем в рамках европейского региона». Оцените состояние российской науки в вашей сфере.
– Не хочется говорить, что мы сильно отстали, но, к сожалению, это правда. Мы давно кричим, что нам не нужна сырьевая экономика, но она до сих пор существует. До сих пор мы не стремились наращивать личную эффективность, эффективность предприятия и страны в целом. Поэтому иностранцы знают только про ракеты и нефтяные поля в Сибири. Зададимся вопросом: что Россия поставляет на мировой рынок? На бытовом уровне – ничего. Мы строим ядерные реакторы, запускаем ракеты, но это очень маленькая часть жизни, и на мировом рынке Россия выглядит мелко. Даже близкие нам страны предпочитают оборудование нероссийского производства. Да что греха таить, мы сами выбираем импортное. Сейчас сознание начинает меняться: люди «наелись» импортных товаров, поняли, что не все так сказочно, как описывается в проспектах, есть еще и отечественные производители, которые тоже что-то умеют. Но скепсис пока присутствует, и нам его нужно преодолеть. Только в этом случае смогут развиваться и наука, и образование, и предприятия.
– Что необходимо для ликвидации этого разрыва? Совместные усилия государства и бизнеса? Чья инициатива тогда должна быть первичной?
Каждый должен делать свое дело. Задача бизнеса – зарабатывать деньги и эффективно тратить ресурсы. Задача государства – обучать и устанавливать правила. Чтобы сократить отставание, оно должно создавать условия, формировать определенную налоговую и таможенную политику. Например, если технологии в основном привозятся с Запада, очевидно, что это стоит денег, плюс требуется время, чтобы они стали что-то приносить. Для этого нужны не льготы – они расслабляют, а налоговые преференции. Но политика у нас такова, что заниматься бизнесом невыгодно. Когда каждый день решаешь покупать какое-то оборудование, инвестировать туда или в иное место – сверяешь доходность и риски. И порой работаешь только потому, что тебе это нравится, просто чтобы быть чем-то занятым. С точки зрения бизнеса это неправильно: ему нужен холодный расчет, ведущий к определенному доходу. Другого мерила успешности, кроме прибыли для предприятия и зарплаты для человека, нет. ///
В июне 2022 НПО «РТС» и ГК «Управление аэропортов Индии» заключили контракт на поставку 34 комплектов оборудования систем посадки для модернизации 24 индийских аэропортов. Сейчас закупки на внутреннем рынке практически остановились, и одновременно НПО «РТС» столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны США на рынках Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Однако с 2019 года компания работала с индийским заказчиком в лице государственной корпорации «Управление аэропортов Индии» (Airports Authority of India (AAI)). Участвуя в конкурсе на поставку инструментальных систем посадки ILS, предприятие успешно прошло все этапы конкурсного отбора и смогло предложить лучшую стоимость в финальном аукционе. Контракт между НПО «РТС» и AAI – первый контракт на поставку российского наземного радиооборудования для гражданской авиации Индии. Пока в аэропортах страны используют оборудование, произведенное в Норвегии, США, Франции, Испании. Александр Долматов уверен, что реализация нового проекта позволит укрепить положение России на международной арене: «Рынок Индии активно развивается и требует существенной модернизации оборудования. Если упустить момент, на ее аэродромах будет стоять исключительно оборудование США и подконтрольных им стран. Мы рискуем сами отдать перспективный рынок, на который с таким трудом выходили. Реализация проекта позволит получить мультипликативный эффект, в первую очередь – занять прочные позиции в стратегической для России отрасли, создать новые высокопроизводительные рабочие места и новые высокотехнологичные производства. Полученная прибыль позволит и дальше повышать качество продукта. А значит, не только увеличивать безопасности полетов, но и совершенствовать технологии производства, которые останутся в РФ».
