челябинск. собеседник
Время составлять планы
Степан Фирстов, член президиума Общества врачей России, уверен, что светлое будущее отрасли невозможно без профессионального объединения врачей. Об этом и о многом другом мы говорим в самом центре Москвы, где и положено встречаться провинциалам между перелетами, заседаниями и переговорами.
Уходящий год запомнится несколькими громкими историями в сфере
здравоохранения. В любой системе бывают проблемы и сбои, но когда они происходят часто, то сигнализируют о необходимости перемен, уверен член президиума Общества врачей России Степан Фирстов. Десять лет назад он открыл в Челябинске свою первую частную клинику, пять лет назад создал в регионе профессиональную ассоциацию ортопедов-травматологов нового формата и последние несколько лет активно представляет врачебное сообщество страны на ассамблеях Всемирной
медицинской ассоциации, будучи ее ассоциированным членом. Бесконечно лавируя между общественной, медицинской и политической жизнью, он
уверен, что светлое будущее отрасли невозможно без профессионального объединения врачей. Об этом и о многом другом мы говорим в самом
центре Москвы, где и положено встречаться провинциалам между перелетами, заседаниями и переговорами.
здравоохранения. В любой системе бывают проблемы и сбои, но когда они происходят часто, то сигнализируют о необходимости перемен, уверен член президиума Общества врачей России Степан Фирстов. Десять лет назад он открыл в Челябинске свою первую частную клинику, пять лет назад создал в регионе профессиональную ассоциацию ортопедов-травматологов нового формата и последние несколько лет активно представляет врачебное сообщество страны на ассамблеях Всемирной
медицинской ассоциации, будучи ее ассоциированным членом. Бесконечно лавируя между общественной, медицинской и политической жизнью, он
уверен, что светлое будущее отрасли невозможно без профессионального объединения врачей. Об этом и о многом другом мы говорим в самом
центре Москвы, где и положено встречаться провинциалам между перелетами, заседаниями и переговорами.
- Чем, по вашему мнению, сегодня больна система здравоохранения в России?
- Во всем мире понятия «здравоохранение» и «медицина» давно разведены. В - Во всем м первое входит большой комплекс факторов, которые позволяют сохранить здоровье, – от экономических до экологических (чистые вода и воздух, нормальное питание, отсутствие хронических стрессов, подвижный образ жизни и так далее). Во второе – всё, что требуется для того, чтобы вернуть утраченное здоровье человеку. С охраной здоровья медицина сама не справится, это всегда задача государства. Проблема нашей страны сегодня –
бедность, россияне в основной своей массе не могут позволить себе качественных продуктов и достойного уровня жизни. Если мы и дальше не будем обращать внимание на то, что жить в нужде – давно норма, то обольщаться насчет здоровья нации и в дальнейшем генетической безопасности вряд ли стоит. Ну и, конечно, серьезной проблемой остается не только то, сколько денег тратится на отрасль, но и как они тратятся. Можно
лить много воды, но в решето.
- А куда «льется» сегодня?
- Фонд ОМС, через который идет основное финансирование здравоохранения сегодня, конечно, наполняется государством, но деньги по сути – «полубюджетные», так как между больницей и государством стоят страховые компании, которые сейчас в том числе занимаются экспертизой медицинской помощи. Большинство больниц финансируется по принципу поддержания экономической жизни в ней, но не конкретного человека – пациента, а самого учреждения, чтобы совсем не закрыли. Бюджет любого отделения складывается из того, сколько больных удалось пролечить. Но пролеченные и излеченные пациенты – это две разные истории.
В итоге с точки зрения финансирования важнее для больницы оказывается количество, а вовсе не качество. Рано или поздно такая система докажет свою неэффективность, что, в общем-то, уже и происходит.
- Насколько сам врач сегодня может влиять на этот процесс?
- Почти никак. Придет к руководству, попросит новое оборудование, дополнительные ставки и так далее. Руководитель в этой истории тоже звено не самостоятельное. Спросил чиновников – сказали: денег нет. Они тоже в вертикаль встроены. Врач возвращается к тому, с чего начал. По сути, он ничего не может сделать сам:
не выбирает и не покупает высокотехнологичное современное оборудование, не разрабатывает протоколы лечения и стандарты, по которым работает. Например, пресловутый норматив времени на первичный осмотр – 10-15 минут. Он высчитывался чиновниками не от сложности работы врача с разными заболеваниями, а от количества человек на участке. При этом клинические случаи в практике специалиста бывают совершенно разные. Даже у доктора с большим опытом прием сложного пациента может занять куда больше времени, что говорить о начинающих. Еще и документы нужно правильно оформить (для прокурора, ведь время пришло такое – каждый сам за себя). Но в коридоре уже очередь, которая, если что, готова идти жаловаться. Получается: врач, как токарь на заводе, должен определенную норму в день выполнить. Но в медицине такой подход не просто ошибочный, он опасный. Чиновники рассуждают как: «Мы деньги дадим, пусть разбираются сами – страна должна быть здоровой». Но происходит почему-то всегда обратная реакция. Все последние встречи Президента, премьера, министра здравоохранения – об одном. «Деньги вливаем большие в отрасль, а результата – ноль». А откуда ему взяться, если регламентируют процесс без участия врачебного сообщества те же чиновники, то есть люди, порой, сильно далекие от реальной медицины. Возможно, они отличные
экономисты и управленцы, но не практикующие доктора, а без участия последних не получится, это давно понял весь мир.
- Вы много лет работали врачом в государственной больнице, сегодня руководите частной клиникой, создали несколько общественных организаций медиков и уже много лет активно работаете за рубежом, изучая системы здравоохранения разных стран и организованного врачебного сообщества. В мире есть образцы, которые можно просто копировать и клонировать? Или каждый будет вынужден идти своим путем проб и ошибок?
- В силу особенностей России будет сложно полностью копировать чей-то конкретный опыт, этого и не стоит делать. Я детально изучал, как работают модели здравоохранения в Америке, Израиле, Болгарии, ЮАР, Бразилии, Латвии и других странах. Но первое и главное отличие России – это огромная неоднородная по плотности населения территория. У нас даже общий федеральный закон трудно бывает подогнать под
конкретный регион. Например, ситуация со «Скорой помощью», которая, согласно приказу Минздрава сегодня, должна подаваться не позднее 20 минут. В той же Челябинской области или других густонаселенных регионах это вполне выполнимый норматив, и то работает не без сбоев. А попробуйте выполнить его в той же Якутии. Захотите - не получится, там врач может добираться до больного около полутора суток.
Кроме того, система здравоохранения в любой стране выстраивается с учетом ее менталитета. В Израиле, например, сегодня сильны позиции врачебной ассоциации в их национальной системе здравоохранения. Здесь каждый шаг доктора оплачен, а престиж профессии очень высок. Бюджет страны позволяет обеспечивать врачам одну из самых высоких зарплат в мире и гарантировать качественное здравоохранение застрахованному пациенту, каждый гражданин сам выбирает себе больничные кассы. Страна небольшая, кадров хватает, порядок в отрасли навести проще. Тем более что создали ее специалисты из России, Германии и других стран на волне эмиграции. Но здесь система доступно работает только для своих граждан – остальным лечение выливается в круглую сумму.
В Америке система ориентирована исключительно на состоятельную часть общества, которая может позволить себе застраховаться. Бедные люди там фактически лишены медпомощи, в лучшем случае экстренно прооперируют и не более. Те бюджетные программы, которые они озвучивают на весь мир, не так уж хорошо работают для собственного населения, ведь в Америке тоже есть проблема бедности и больших территорий.
В Германии доктор настолько органично встроен в систему, что весь процесс работает как часы. При этом лицензию ему выдает не министерство здравоохранения страны, а врачебное сообщество (Врачебная палата), в котором состоит каждый специалист без исключения. Оно же следит за профессиональной деятельностью каждого члена. Полномочия четко разделены: государство отвечает за организацию здравоохранения, врачебное сообщество в ответе за правильное лечение пациентов. Законы страны, связанные с врачебной деятельностью, написанные когда-то с участием самих врачей и юристов, сегодня четко встроены в систему общего финансирования. Но с точки зрения ответственности перед пациентом за качество оказания медицинской помощи государство поставило докторов между ними и собой, тем самым разделив ответственность между врачами и чиновниками. Мне кажется, сегодня это наиболее привлекательная для нас модель: обязательное членство всех без исключения врачей и частичное делегирование полномочий врачебному сообществу от Минздрава. Например, клинические рекомендации изначально должны разрабатываться во врачебном сообществе, а затем приниматься Минздравом, также вопросы грамотного современного профессионального дообучения или переквалифицирования – это задача врачебной организации. У нас не получится, как в Израиле или Америке, – это очевидно. А вот германский опыт, где есть обязательное членство всех врачей без исключения в профессиональной организации, вполне можно использовать для построения своей уникальной модели национальной врачебной организации, несмотря на все отличия в менталитете, территориальных особенностей и экономических возможностях. Главное, оставить ключевым фактором принцип саморегулирования и самоуправления отрасли.
- Во всем мире понятия «здравоохранение» и «медицина» давно разведены. В - Во всем м первое входит большой комплекс факторов, которые позволяют сохранить здоровье, – от экономических до экологических (чистые вода и воздух, нормальное питание, отсутствие хронических стрессов, подвижный образ жизни и так далее). Во второе – всё, что требуется для того, чтобы вернуть утраченное здоровье человеку. С охраной здоровья медицина сама не справится, это всегда задача государства. Проблема нашей страны сегодня –
бедность, россияне в основной своей массе не могут позволить себе качественных продуктов и достойного уровня жизни. Если мы и дальше не будем обращать внимание на то, что жить в нужде – давно норма, то обольщаться насчет здоровья нации и в дальнейшем генетической безопасности вряд ли стоит. Ну и, конечно, серьезной проблемой остается не только то, сколько денег тратится на отрасль, но и как они тратятся. Можно
лить много воды, но в решето.
- А куда «льется» сегодня?
- Фонд ОМС, через который идет основное финансирование здравоохранения сегодня, конечно, наполняется государством, но деньги по сути – «полубюджетные», так как между больницей и государством стоят страховые компании, которые сейчас в том числе занимаются экспертизой медицинской помощи. Большинство больниц финансируется по принципу поддержания экономической жизни в ней, но не конкретного человека – пациента, а самого учреждения, чтобы совсем не закрыли. Бюджет любого отделения складывается из того, сколько больных удалось пролечить. Но пролеченные и излеченные пациенты – это две разные истории.
В итоге с точки зрения финансирования важнее для больницы оказывается количество, а вовсе не качество. Рано или поздно такая система докажет свою неэффективность, что, в общем-то, уже и происходит.
- Насколько сам врач сегодня может влиять на этот процесс?
- Почти никак. Придет к руководству, попросит новое оборудование, дополнительные ставки и так далее. Руководитель в этой истории тоже звено не самостоятельное. Спросил чиновников – сказали: денег нет. Они тоже в вертикаль встроены. Врач возвращается к тому, с чего начал. По сути, он ничего не может сделать сам:
не выбирает и не покупает высокотехнологичное современное оборудование, не разрабатывает протоколы лечения и стандарты, по которым работает. Например, пресловутый норматив времени на первичный осмотр – 10-15 минут. Он высчитывался чиновниками не от сложности работы врача с разными заболеваниями, а от количества человек на участке. При этом клинические случаи в практике специалиста бывают совершенно разные. Даже у доктора с большим опытом прием сложного пациента может занять куда больше времени, что говорить о начинающих. Еще и документы нужно правильно оформить (для прокурора, ведь время пришло такое – каждый сам за себя). Но в коридоре уже очередь, которая, если что, готова идти жаловаться. Получается: врач, как токарь на заводе, должен определенную норму в день выполнить. Но в медицине такой подход не просто ошибочный, он опасный. Чиновники рассуждают как: «Мы деньги дадим, пусть разбираются сами – страна должна быть здоровой». Но происходит почему-то всегда обратная реакция. Все последние встречи Президента, премьера, министра здравоохранения – об одном. «Деньги вливаем большие в отрасль, а результата – ноль». А откуда ему взяться, если регламентируют процесс без участия врачебного сообщества те же чиновники, то есть люди, порой, сильно далекие от реальной медицины. Возможно, они отличные
экономисты и управленцы, но не практикующие доктора, а без участия последних не получится, это давно понял весь мир.
- Вы много лет работали врачом в государственной больнице, сегодня руководите частной клиникой, создали несколько общественных организаций медиков и уже много лет активно работаете за рубежом, изучая системы здравоохранения разных стран и организованного врачебного сообщества. В мире есть образцы, которые можно просто копировать и клонировать? Или каждый будет вынужден идти своим путем проб и ошибок?
- В силу особенностей России будет сложно полностью копировать чей-то конкретный опыт, этого и не стоит делать. Я детально изучал, как работают модели здравоохранения в Америке, Израиле, Болгарии, ЮАР, Бразилии, Латвии и других странах. Но первое и главное отличие России – это огромная неоднородная по плотности населения территория. У нас даже общий федеральный закон трудно бывает подогнать под
конкретный регион. Например, ситуация со «Скорой помощью», которая, согласно приказу Минздрава сегодня, должна подаваться не позднее 20 минут. В той же Челябинской области или других густонаселенных регионах это вполне выполнимый норматив, и то работает не без сбоев. А попробуйте выполнить его в той же Якутии. Захотите - не получится, там врач может добираться до больного около полутора суток.
Кроме того, система здравоохранения в любой стране выстраивается с учетом ее менталитета. В Израиле, например, сегодня сильны позиции врачебной ассоциации в их национальной системе здравоохранения. Здесь каждый шаг доктора оплачен, а престиж профессии очень высок. Бюджет страны позволяет обеспечивать врачам одну из самых высоких зарплат в мире и гарантировать качественное здравоохранение застрахованному пациенту, каждый гражданин сам выбирает себе больничные кассы. Страна небольшая, кадров хватает, порядок в отрасли навести проще. Тем более что создали ее специалисты из России, Германии и других стран на волне эмиграции. Но здесь система доступно работает только для своих граждан – остальным лечение выливается в круглую сумму.
В Америке система ориентирована исключительно на состоятельную часть общества, которая может позволить себе застраховаться. Бедные люди там фактически лишены медпомощи, в лучшем случае экстренно прооперируют и не более. Те бюджетные программы, которые они озвучивают на весь мир, не так уж хорошо работают для собственного населения, ведь в Америке тоже есть проблема бедности и больших территорий.
В Германии доктор настолько органично встроен в систему, что весь процесс работает как часы. При этом лицензию ему выдает не министерство здравоохранения страны, а врачебное сообщество (Врачебная палата), в котором состоит каждый специалист без исключения. Оно же следит за профессиональной деятельностью каждого члена. Полномочия четко разделены: государство отвечает за организацию здравоохранения, врачебное сообщество в ответе за правильное лечение пациентов. Законы страны, связанные с врачебной деятельностью, написанные когда-то с участием самих врачей и юристов, сегодня четко встроены в систему общего финансирования. Но с точки зрения ответственности перед пациентом за качество оказания медицинской помощи государство поставило докторов между ними и собой, тем самым разделив ответственность между врачами и чиновниками. Мне кажется, сегодня это наиболее привлекательная для нас модель: обязательное членство всех без исключения врачей и частичное делегирование полномочий врачебному сообществу от Минздрава. Например, клинические рекомендации изначально должны разрабатываться во врачебном сообществе, а затем приниматься Минздравом, также вопросы грамотного современного профессионального дообучения или переквалифицирования – это задача врачебной организации. У нас не получится, как в Израиле или Америке, – это очевидно. А вот германский опыт, где есть обязательное членство всех врачей без исключения в профессиональной организации, вполне можно использовать для построения своей уникальной модели национальной врачебной организации, несмотря на все отличия в менталитете, территориальных особенностей и экономических возможностях. Главное, оставить ключевым фактором принцип саморегулирования и самоуправления отрасли.
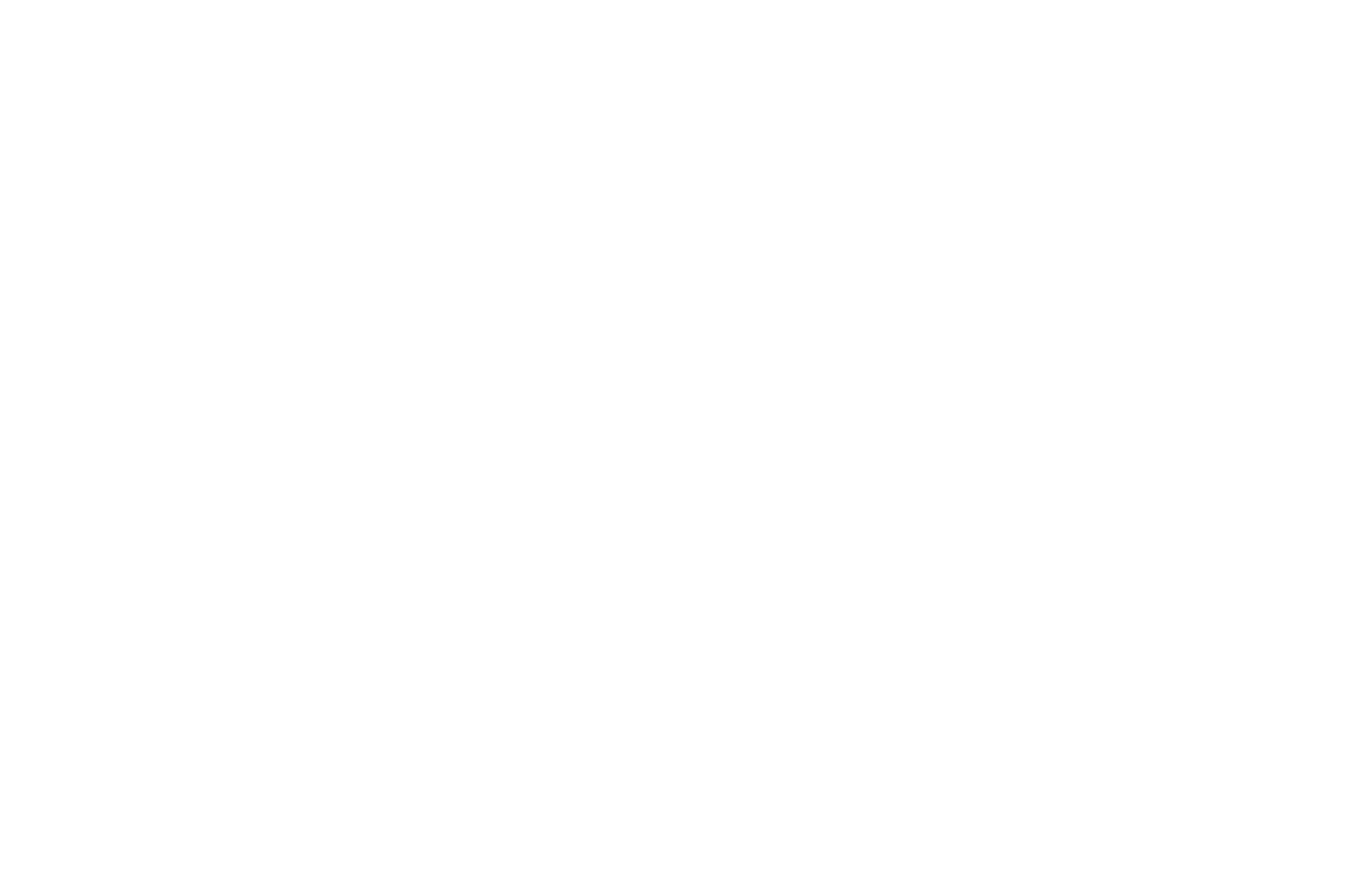
- В чем преимущества этой системы для пациентов?
- Когда лицензию на профессиональную деятельность доктору выдают врачи (для справки: сейчас у нас лицензию на медицинскую деятельность получает не врач, а медицинская организация), они сами следят за работой друг друга. У каждого доктора появляется личная ответственность перед коллегами и пациентами. Ассоциация всегда в открытом доступе публикует актуальный перечень специалистов с учетом квалификации
и компетенций. Пациенту не приходится вслепую искать профессионала. Мы по такому принципу строили клинику в Миассе, где основной акцент был именно на персонал. В FMC есть современное оборудование, здесь могут проводить и проводят операции мирового уровня, но едут сюда порой даже из столицы все-таки не на оборудование, а на врача. Поскольку основной профиль FMC – ортопедия и травматология, чаще всего к
нам приезжают профессиональные спортсмены, танцовщики, а сегодня уже федеральные политики и бизнесмены. Когда пять лет назад мы организовывали в Челябинской области ассоциацию травматологов-ортопедов, то нигде не могли найти данных о том, сколько в регионе таких врачей. В итоге сами проводили первичную их перепись. В тот момент даже у Минздрава не было сведений, ведь многие уже ушли из государственных больниц, работали на постоянной основе в частной медицине. В случае, когда отрасль регулирует профессиональное сообщество, такое просто невозможно. Необходимо не только знать количество специалистов, но и иметь на каждого качественную профессиональную характеристику с пониманием уровня подготовки каждого врача, его возможностей в специальности. Это позволит
в дальнейшем эффективно решать как кадровые вопросы внутри сообщества, так и пациенту в случае необходимости сделать правильный и осознанный выбор специалиста.
- Кто при таком подходе будет оплачивать работу ассоциации?
- Сами врачи платят фиксированный взнос вне зависимости от места работы – в государственной или частной медицине. И организации во многих странах работают абсолютно самодостаточно. В России можно это сделать по аналогии с нотариатом например, где общий бюджет профессиональной организации позволяет
сегодня даже выплачивать пенсию своим членам по выходе на нее. Безусловно, система должна подчиняться юридическим нормам государства, встраиваться в экономический оборот, но жить – по своему отдельному закону, автономно управляясь и планируя бюджет самостоятельно. Всех врачей в России сегодня подчинили
чиновники от здравоохранения. Да такая вертикаль, возможно, должна быть. Но кроме этого, весь мир доказал, что им необходима еще и горизонтальная соучастность в жизни друг друга. Пример саморегулируемой ассоциации травматологов-ортопедов в Челябинске это отлично доказал. Сначала врачи просто приходили посмотреть, как это работает. Сейчас в ассоциации, которая существует на добровольной основе, 130 специалистов из 180 имеющихся в области. В большом городе доктору, конечно, проще, но даже здесь коллеги знают только тех, с кем работают. Ну, может быть, где-то пересекаются с небольшим количеством врачей из других больниц. А если травматолог уехал в сельскую местность, то связь с профессиональным сообществом, по сути, для него прерывается. При этом именно он – тот человек, который первый сталкивается с травмой в тех условиях, где под рукой у него оказываются только собственные
знания и опыт. Да еще и укомплектованность оборудованием тех же центральных районных больниц сегодня оставляет желать лучшего. Страна у нас большая, деревни часто растут вдоль трасс, и где произойдет авария, никто не знает. Сегодня благодаря ассоциации в нашей области большинство травматологов региона находятся на прямой связи друг с другом, в том числе в общем интернет-чате. При необходимости врач из глубинки онлайн может связаться со старшим коллегой – проконсультироваться или попросить профессиональной помощи, чтобы правильно принять решение, сохранив жизнь пациенту. Именно так налаживаются горизонтальные связи. Плюс общие собрания, мастер-классы, клинические разборы уникальных случаев, обмен опытом и мнениями – это то, без чего нет развития ни в какой отрасли.
- Кроме общего развития и профессионального общения, что может дать ассоциация отдельному врачу?
- Она может гарантировать его представительство в определенных ситуациях. В этом году мы завершаем пилотный проект по страхованию индивидуальной ответственности врача, входящего в ассоциацию. Это будет не только страховка, но при необходимости и постоянное юридическое сопровождение, как я посмотрел
это уже во многих странах. В трагической для себя ситуации (например, допустив врачебную ошибку, чего, к сожалению, исключить нельзя) доктор не останется один на один с системой. Представлять его интересы будет ассоциация, куда входят в том числе и юристы. В последнее время мы все чаще становимся свидетелями
историй, когда на волне общественного резонанса врачи, объединившись общим хештегом, подписывают открытые письма в поддержку друг друга. Это говорит о том, что отрасль готова к реформированию и
формированию профессионального сообщества с официальным статусом.
- Когда лицензию на профессиональную деятельность доктору выдают врачи (для справки: сейчас у нас лицензию на медицинскую деятельность получает не врач, а медицинская организация), они сами следят за работой друг друга. У каждого доктора появляется личная ответственность перед коллегами и пациентами. Ассоциация всегда в открытом доступе публикует актуальный перечень специалистов с учетом квалификации
и компетенций. Пациенту не приходится вслепую искать профессионала. Мы по такому принципу строили клинику в Миассе, где основной акцент был именно на персонал. В FMC есть современное оборудование, здесь могут проводить и проводят операции мирового уровня, но едут сюда порой даже из столицы все-таки не на оборудование, а на врача. Поскольку основной профиль FMC – ортопедия и травматология, чаще всего к
нам приезжают профессиональные спортсмены, танцовщики, а сегодня уже федеральные политики и бизнесмены. Когда пять лет назад мы организовывали в Челябинской области ассоциацию травматологов-ортопедов, то нигде не могли найти данных о том, сколько в регионе таких врачей. В итоге сами проводили первичную их перепись. В тот момент даже у Минздрава не было сведений, ведь многие уже ушли из государственных больниц, работали на постоянной основе в частной медицине. В случае, когда отрасль регулирует профессиональное сообщество, такое просто невозможно. Необходимо не только знать количество специалистов, но и иметь на каждого качественную профессиональную характеристику с пониманием уровня подготовки каждого врача, его возможностей в специальности. Это позволит
в дальнейшем эффективно решать как кадровые вопросы внутри сообщества, так и пациенту в случае необходимости сделать правильный и осознанный выбор специалиста.
- Кто при таком подходе будет оплачивать работу ассоциации?
- Сами врачи платят фиксированный взнос вне зависимости от места работы – в государственной или частной медицине. И организации во многих странах работают абсолютно самодостаточно. В России можно это сделать по аналогии с нотариатом например, где общий бюджет профессиональной организации позволяет
сегодня даже выплачивать пенсию своим членам по выходе на нее. Безусловно, система должна подчиняться юридическим нормам государства, встраиваться в экономический оборот, но жить – по своему отдельному закону, автономно управляясь и планируя бюджет самостоятельно. Всех врачей в России сегодня подчинили
чиновники от здравоохранения. Да такая вертикаль, возможно, должна быть. Но кроме этого, весь мир доказал, что им необходима еще и горизонтальная соучастность в жизни друг друга. Пример саморегулируемой ассоциации травматологов-ортопедов в Челябинске это отлично доказал. Сначала врачи просто приходили посмотреть, как это работает. Сейчас в ассоциации, которая существует на добровольной основе, 130 специалистов из 180 имеющихся в области. В большом городе доктору, конечно, проще, но даже здесь коллеги знают только тех, с кем работают. Ну, может быть, где-то пересекаются с небольшим количеством врачей из других больниц. А если травматолог уехал в сельскую местность, то связь с профессиональным сообществом, по сути, для него прерывается. При этом именно он – тот человек, который первый сталкивается с травмой в тех условиях, где под рукой у него оказываются только собственные
знания и опыт. Да еще и укомплектованность оборудованием тех же центральных районных больниц сегодня оставляет желать лучшего. Страна у нас большая, деревни часто растут вдоль трасс, и где произойдет авария, никто не знает. Сегодня благодаря ассоциации в нашей области большинство травматологов региона находятся на прямой связи друг с другом, в том числе в общем интернет-чате. При необходимости врач из глубинки онлайн может связаться со старшим коллегой – проконсультироваться или попросить профессиональной помощи, чтобы правильно принять решение, сохранив жизнь пациенту. Именно так налаживаются горизонтальные связи. Плюс общие собрания, мастер-классы, клинические разборы уникальных случаев, обмен опытом и мнениями – это то, без чего нет развития ни в какой отрасли.
- Кроме общего развития и профессионального общения, что может дать ассоциация отдельному врачу?
- Она может гарантировать его представительство в определенных ситуациях. В этом году мы завершаем пилотный проект по страхованию индивидуальной ответственности врача, входящего в ассоциацию. Это будет не только страховка, но при необходимости и постоянное юридическое сопровождение, как я посмотрел
это уже во многих странах. В трагической для себя ситуации (например, допустив врачебную ошибку, чего, к сожалению, исключить нельзя) доктор не останется один на один с системой. Представлять его интересы будет ассоциация, куда входят в том числе и юристы. В последнее время мы все чаще становимся свидетелями
историй, когда на волне общественного резонанса врачи, объединившись общим хештегом, подписывают открытые письма в поддержку друг друга. Это говорит о том, что отрасль готова к реформированию и
формированию профессионального сообщества с официальным статусом.
- В этом году были случаи, когда
врачи писали массовые заявления об увольнении целыми отделениями. Это
коснулось Нижнего Тагила, Перми, Челябинской области. Во всех случаях основной причиной называлась зарплата. По вашему мнению, не проще ли решить
эту проблему повышением последней?
- В России сложилась уникальная ситуация. Конкурс в медицинские ВУЗы продолжает быть высоким, но в профессии остаются далеко не все.
врачи писали массовые заявления об увольнении целыми отделениями. Это
коснулось Нижнего Тагила, Перми, Челябинской области. Во всех случаях основной причиной называлась зарплата. По вашему мнению, не проще ли решить
эту проблему повышением последней?
- В России сложилась уникальная ситуация. Конкурс в медицинские ВУЗы продолжает быть высоким, но в профессии остаются далеко не все.
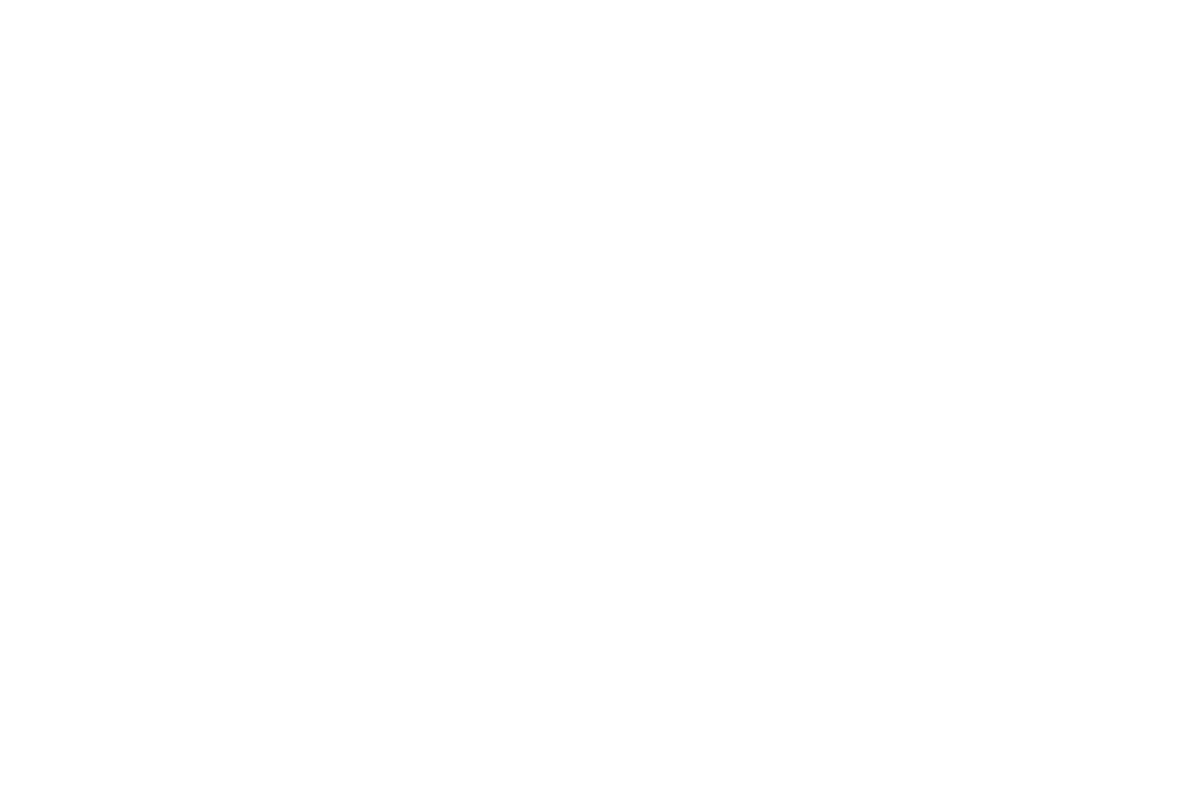
Врач абсолютно недооценен государством. В этом году я был в Афинах, куда слетелись коллеги со всего мира. При том, что Греция сегодня – одна из самых бедных стран Евросоюза, зарплаты, за вычетом налогов, обязательных платежей и с учетом общего уровня жизни, не сильно отличаются от наших, врач, несмотря ни на что, остается представителем одной из самых уважаемых профессий. К нему обращаются там – Господин врач...
Или, например, в Германии сантехник в 25 лет получает больше, чем врач в этом же возрасте. Но государство всегда поддерживает молодого специалиста в этот непростой для него период. В итоге, улучшая квалификацию и повышая профессионализм, к 35 годам врач зарабатывает в 2-3 раза больше сантехника, и
дальше разрыв только увеличивается. Но в 25, именно в период становления и создания семьи, ему помогли остаться на плаву, чтобы он не ушел из профессии туда, где в данный момент просто больше платят. Получается, что, с одной стороны, его поддерживает государство, с другой – профессиональное сообщество. Если такого плеча нет, врачам сложнее, и порой все заканчивается уходом из профессии и профессиональным выгоранием. Врачевание для меня – это не та профессия, которая может объявить, например, итальянскую забастовку, ведь врачебный долг – экстренно помогать людям 24 часа в сутки. Забастовка у них не может стать
способом защиты. Как это будет выглядеть со «Скорой помощью», например?.. Самый эффективный способ повлиять на ситуацию в стране и отношение государства к профессии, – это если сами доктора, объединившись в сообщество, начнут представлять себя на разных уровнях власти. Ситуацию, конечно, не удастся изменить сразу. Но трансформировавшись со временем в общественно-политическую силу, врачи смогут на равных говорить с той консервативной частью общества, которая всегда опасается реформ и
перемен и не обращает внимание на то, что профессия «врач» совсем скоро станет непривлекательной для абитуриентов со всеми вытекающими последствиями. Уже сегодня дефицит докторов достигает нескольких десятков тысяч по стране в принципе, не говоря о том, сколько среди них осталось истинных профессионалов.
- Вы поэтому сегодня в Москве?
- Я был на Президиуме Партии пенсионеров, с которой я сегодня работаю в политике. Выбор, сделанный когда-то, не был случайным – у партии большая социальная повестка, к тому же пенсионерами будем все, конечно если доживем. К сожалению, эта категория сегодня остается одной из самых незащищенных.
Те, кому здоровье позволяет, продолжают работать, но чаще не от хорошей жизни. Для этих людей в силу возраста и ограниченных финансовых возможностей ситуация со здравоохранением особенно актуальна. В случае чего они идут в районную поликлинику, к участковому врачу. Возраст не тот, чтобы бегать и выяснять квалификацию специалиста. Поэтому профессиональное сообщество во многом упростит ситуацию. Работа пойдет быстрее, если объединение врачей будет представлено в Госдуме. Представлено теми, кто знает ситуацию изнутри, кто не просто обозначит проблему и наметит пути решения, но и сам будет готов участвовать в построении новой системы. Сегодня я понимаю, что буду полезным, поскольку знаю ситуацию со стороны практикующего врача, руководителя частной клиники, общественника и политика. Но здесь важна командная игра. По линии партии мы сейчас ищем активных врачей в регионах, которым близки эти идеи и принципы, и такие люди есть. Еще необходимо сюда добавить мою работу по линии Общества врачей России – уже год как я вхожу в президиум данной организации и теперь руковожу ее региональным отделением. Почетный Президент Общества врачей России – Евгений Иванович Чазов, мировая легенда российской медицины. Там мы с большой группой известных на всю страну врачей тоже работаем над изменением ситуации.
- У государственной и частной медицины сегодня общие «болезни»?
- Частная больна своими, главная из которых – соотношение экономики и медицины. Мало кто из крупных частных клиник ставит финансовые риски на второй план. «От врача» работают, как правило, небольшие клиники, и держатся они, как правило, только на его личности, и команды из таких же специалистов рядом. Но профессиональное сообщество способно отрегулировать рыночный механизм в медицине. Доктор будет подчиняться не только своему руководителю, который на первое место ставит экономическую составляющую со всеми вытекающими последствиями для пациента. Он станет ответственным перед ассоциацией, которая за заведомо неправильное лечение в передовых странах сегодня лишает лицензии самого врача. Проблема соотношения медицины и экономики актуальна для всего мира. Эффективнее всего она решается разделением этих понятий.
- Не рискует ли врач в этом случае оказаться между двух огней?
- От одного огня он будет защищен другим. Если, например, руководство продолжит давить на врача, профессиональное сообщество сможет оказать юридическую поддержку. Выстроить работающую систему, разведя медицину и экономику, возможно. В нашей клинике в Миассе, кстати, удалось отстроить модель, при которой лечением занимаются врачи, а экономической эффективностью – маркетологи и экономисты. В историях, где врачебная зарплата завязана на экономических показателях, в долгосрочной перспективе проигрывают все – пациент, переплативший за лечение, врач, пошатнувший свой авторитет, и клиника, рисковавшая своей репутацией. Это очевидно!
- В одном из интервью вы говорили: изменить что-то в здравоохранении на региональном уровне невозможно. Какой смысл начинать движение на местах? Или с тех пор что-то изменилось?
- Прежде чем начинать врачебное объединение в Челябинской области, я ездил по миру, изучал большой опыт зарубежных коллег. Нигде история профессиональных врачебных сообществ не начиналась сверху. Мы специально сначала организовали ассоциацию одного профиля на региональном уровне, чтобы на ее примере посмотреть, как система будет работать на микромодели. Объединить всех сразу в одно сообщество никогда не получится без понимания принципов, на которых оно будет выстроено. А нам нужна единая сильная работоспособная врачебная организация, которая защитит не только врача, но и пациента, сделав
наше государство еще мощнее. Ведь основа безопасности любой страны – это ее генетическая защищенность, на страже которой стоят не ракеты и бомбы, а в первую очередь профессиональные врачи!
С Новым годом! ///
Или, например, в Германии сантехник в 25 лет получает больше, чем врач в этом же возрасте. Но государство всегда поддерживает молодого специалиста в этот непростой для него период. В итоге, улучшая квалификацию и повышая профессионализм, к 35 годам врач зарабатывает в 2-3 раза больше сантехника, и
дальше разрыв только увеличивается. Но в 25, именно в период становления и создания семьи, ему помогли остаться на плаву, чтобы он не ушел из профессии туда, где в данный момент просто больше платят. Получается, что, с одной стороны, его поддерживает государство, с другой – профессиональное сообщество. Если такого плеча нет, врачам сложнее, и порой все заканчивается уходом из профессии и профессиональным выгоранием. Врачевание для меня – это не та профессия, которая может объявить, например, итальянскую забастовку, ведь врачебный долг – экстренно помогать людям 24 часа в сутки. Забастовка у них не может стать
способом защиты. Как это будет выглядеть со «Скорой помощью», например?.. Самый эффективный способ повлиять на ситуацию в стране и отношение государства к профессии, – это если сами доктора, объединившись в сообщество, начнут представлять себя на разных уровнях власти. Ситуацию, конечно, не удастся изменить сразу. Но трансформировавшись со временем в общественно-политическую силу, врачи смогут на равных говорить с той консервативной частью общества, которая всегда опасается реформ и
перемен и не обращает внимание на то, что профессия «врач» совсем скоро станет непривлекательной для абитуриентов со всеми вытекающими последствиями. Уже сегодня дефицит докторов достигает нескольких десятков тысяч по стране в принципе, не говоря о том, сколько среди них осталось истинных профессионалов.
- Вы поэтому сегодня в Москве?
- Я был на Президиуме Партии пенсионеров, с которой я сегодня работаю в политике. Выбор, сделанный когда-то, не был случайным – у партии большая социальная повестка, к тому же пенсионерами будем все, конечно если доживем. К сожалению, эта категория сегодня остается одной из самых незащищенных.
Те, кому здоровье позволяет, продолжают работать, но чаще не от хорошей жизни. Для этих людей в силу возраста и ограниченных финансовых возможностей ситуация со здравоохранением особенно актуальна. В случае чего они идут в районную поликлинику, к участковому врачу. Возраст не тот, чтобы бегать и выяснять квалификацию специалиста. Поэтому профессиональное сообщество во многом упростит ситуацию. Работа пойдет быстрее, если объединение врачей будет представлено в Госдуме. Представлено теми, кто знает ситуацию изнутри, кто не просто обозначит проблему и наметит пути решения, но и сам будет готов участвовать в построении новой системы. Сегодня я понимаю, что буду полезным, поскольку знаю ситуацию со стороны практикующего врача, руководителя частной клиники, общественника и политика. Но здесь важна командная игра. По линии партии мы сейчас ищем активных врачей в регионах, которым близки эти идеи и принципы, и такие люди есть. Еще необходимо сюда добавить мою работу по линии Общества врачей России – уже год как я вхожу в президиум данной организации и теперь руковожу ее региональным отделением. Почетный Президент Общества врачей России – Евгений Иванович Чазов, мировая легенда российской медицины. Там мы с большой группой известных на всю страну врачей тоже работаем над изменением ситуации.
- У государственной и частной медицины сегодня общие «болезни»?
- Частная больна своими, главная из которых – соотношение экономики и медицины. Мало кто из крупных частных клиник ставит финансовые риски на второй план. «От врача» работают, как правило, небольшие клиники, и держатся они, как правило, только на его личности, и команды из таких же специалистов рядом. Но профессиональное сообщество способно отрегулировать рыночный механизм в медицине. Доктор будет подчиняться не только своему руководителю, который на первое место ставит экономическую составляющую со всеми вытекающими последствиями для пациента. Он станет ответственным перед ассоциацией, которая за заведомо неправильное лечение в передовых странах сегодня лишает лицензии самого врача. Проблема соотношения медицины и экономики актуальна для всего мира. Эффективнее всего она решается разделением этих понятий.
- Не рискует ли врач в этом случае оказаться между двух огней?
- От одного огня он будет защищен другим. Если, например, руководство продолжит давить на врача, профессиональное сообщество сможет оказать юридическую поддержку. Выстроить работающую систему, разведя медицину и экономику, возможно. В нашей клинике в Миассе, кстати, удалось отстроить модель, при которой лечением занимаются врачи, а экономической эффективностью – маркетологи и экономисты. В историях, где врачебная зарплата завязана на экономических показателях, в долгосрочной перспективе проигрывают все – пациент, переплативший за лечение, врач, пошатнувший свой авторитет, и клиника, рисковавшая своей репутацией. Это очевидно!
- В одном из интервью вы говорили: изменить что-то в здравоохранении на региональном уровне невозможно. Какой смысл начинать движение на местах? Или с тех пор что-то изменилось?
- Прежде чем начинать врачебное объединение в Челябинской области, я ездил по миру, изучал большой опыт зарубежных коллег. Нигде история профессиональных врачебных сообществ не начиналась сверху. Мы специально сначала организовали ассоциацию одного профиля на региональном уровне, чтобы на ее примере посмотреть, как система будет работать на микромодели. Объединить всех сразу в одно сообщество никогда не получится без понимания принципов, на которых оно будет выстроено. А нам нужна единая сильная работоспособная врачебная организация, которая защитит не только врача, но и пациента, сделав
наше государство еще мощнее. Ведь основа безопасности любой страны – это ее генетическая защищенность, на страже которой стоят не ракеты и бомбы, а в первую очередь профессиональные врачи!
С Новым годом! ///
Текст: Александра Белкина
Фото: Владимир Трефилов
Фото: Владимир Трефилов
Follow on Facebook
