UNO. ЭКСПЕРТ
ПОКОЛЕНИЕ НЕ ТУПЕЕТ
Текст: Анастасия Болтачева. Фото: из архива Егора Сартакова.
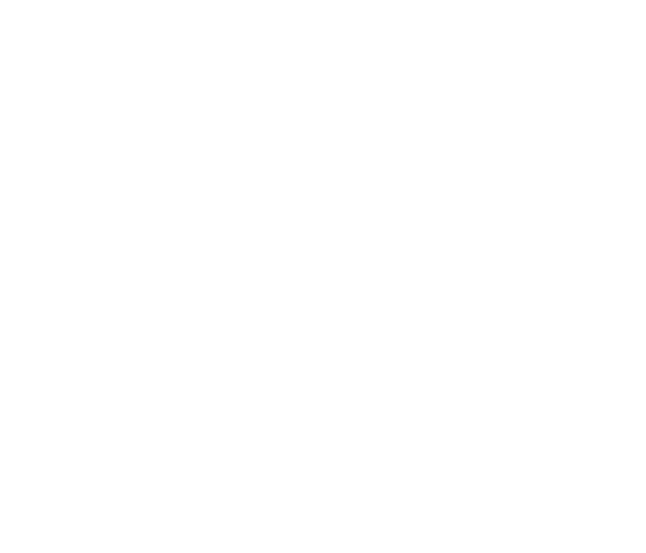
«Сегодня ты гуманитарий, а завтра моешь планетарий» - нестареющая классика дразнилок. Правда ли, что гуманитарные специальности бесполезны, а изучение местной литературы – пустая трата времени. Нужно ли журналистам иметь образование? Кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков рассказал журналу Uno, что думает на этот счет.
- В последние лет тридцать в России слово «гуманитарий» приравнивают к словам «тупица» или «бесполезный». Ваша версия: почему это произошло и как с этим бороться?
- Мне кажется, ответ очевиден. Когда нас резко бросило в демократическую волну и мы начали строить капитализм, на первый план вышла идея, что профессия должна приносить доход. Даже сейчас часто говорят, что нужно обучиться «нормальной» работе, которая будет цениться за рубежом. А гуманитарные специальности вроде как не способны приносить деньги. Хотя я с этим не согласен. Как менять ситуацию? Не знаю. Мне тяжело говорить за всю Россию, потому что я могу судить только по университету, в котором преподаю. У нас в МГУ не воспринимают гуманитариев как тупиц.
- С каким уровнем поступают абитуриенты?
- В МГУ приходят с высоким. Я преподавал на подготовительных курсах на нашем факультете. Целый год работал с ребятами, учил их, но даже среди них не все поступили – было много других абитуриентов с очень высоким уровнем. У меня нет ощущения, что поколение тупеет.
- Поступают ли к вам мажоры?
- Журналистом быть тяжело. Работать приходится много и часто в экстремальных условиях – к примеру, сейчас мы с вами разговариваем в такси. Так что у нас неподходящий факультет для «мальчиков-мажоров». Встречаются, конечно, барышни, которые не скрывают – родители отправили их учиться, чтобы получить диплом, поставить его на полочку и в будущем показывать мужу, мол: «Я окончила факультет журналистики». Но они в основном учатся на платном отделении и их немного.
- Вы сказали, что гуманитарное образование разрушили лет тридцать назад. Мне кажется, что это произошло гораздо раньше. Разрушив систему образования, большевики поняли, что стране нужна индустриализация, нужны технари. А зачем гуманитарии? Чтобы учить людей думать? Научишь – станет хлопотно.
- Я не согласен. Во-первых, не забывайте, что в учебных заведениях продолжали работать профессора, которые преподавали еще до революции. Была целая плеяда ученых, сознательно оставшихся, вырастивших поколение преемников.
Во-вторых, я не согласен с тем, что в Советском Союзе не ценили гуманитарное образование. Показательный момент: люди, которые получали технические специальности, много читали, приходили на поэтические вечера, приглашали к себе в гости. У них было желание расширяться в гуманитарной сфере. Сейчас я этого не наблюдаю.
- Мне кажется, ответ очевиден. Когда нас резко бросило в демократическую волну и мы начали строить капитализм, на первый план вышла идея, что профессия должна приносить доход. Даже сейчас часто говорят, что нужно обучиться «нормальной» работе, которая будет цениться за рубежом. А гуманитарные специальности вроде как не способны приносить деньги. Хотя я с этим не согласен. Как менять ситуацию? Не знаю. Мне тяжело говорить за всю Россию, потому что я могу судить только по университету, в котором преподаю. У нас в МГУ не воспринимают гуманитариев как тупиц.
- С каким уровнем поступают абитуриенты?
- В МГУ приходят с высоким. Я преподавал на подготовительных курсах на нашем факультете. Целый год работал с ребятами, учил их, но даже среди них не все поступили – было много других абитуриентов с очень высоким уровнем. У меня нет ощущения, что поколение тупеет.
- Поступают ли к вам мажоры?
- Журналистом быть тяжело. Работать приходится много и часто в экстремальных условиях – к примеру, сейчас мы с вами разговариваем в такси. Так что у нас неподходящий факультет для «мальчиков-мажоров». Встречаются, конечно, барышни, которые не скрывают – родители отправили их учиться, чтобы получить диплом, поставить его на полочку и в будущем показывать мужу, мол: «Я окончила факультет журналистики». Но они в основном учатся на платном отделении и их немного.
- Вы сказали, что гуманитарное образование разрушили лет тридцать назад. Мне кажется, что это произошло гораздо раньше. Разрушив систему образования, большевики поняли, что стране нужна индустриализация, нужны технари. А зачем гуманитарии? Чтобы учить людей думать? Научишь – станет хлопотно.
- Я не согласен. Во-первых, не забывайте, что в учебных заведениях продолжали работать профессора, которые преподавали еще до революции. Была целая плеяда ученых, сознательно оставшихся, вырастивших поколение преемников.
Во-вторых, я не согласен с тем, что в Советском Союзе не ценили гуманитарное образование. Показательный момент: люди, которые получали технические специальности, много читали, приходили на поэтические вечера, приглашали к себе в гости. У них было желание расширяться в гуманитарной сфере. Сейчас я этого не наблюдаю.
Локальный фольклор – это потрясающе. Но мы не можем говорить о том, что все авторы равны. Удмуртский поэт, известный только на родине, не равен Пушкину. Не всякая национальная литература становится мировой. А русская стала.
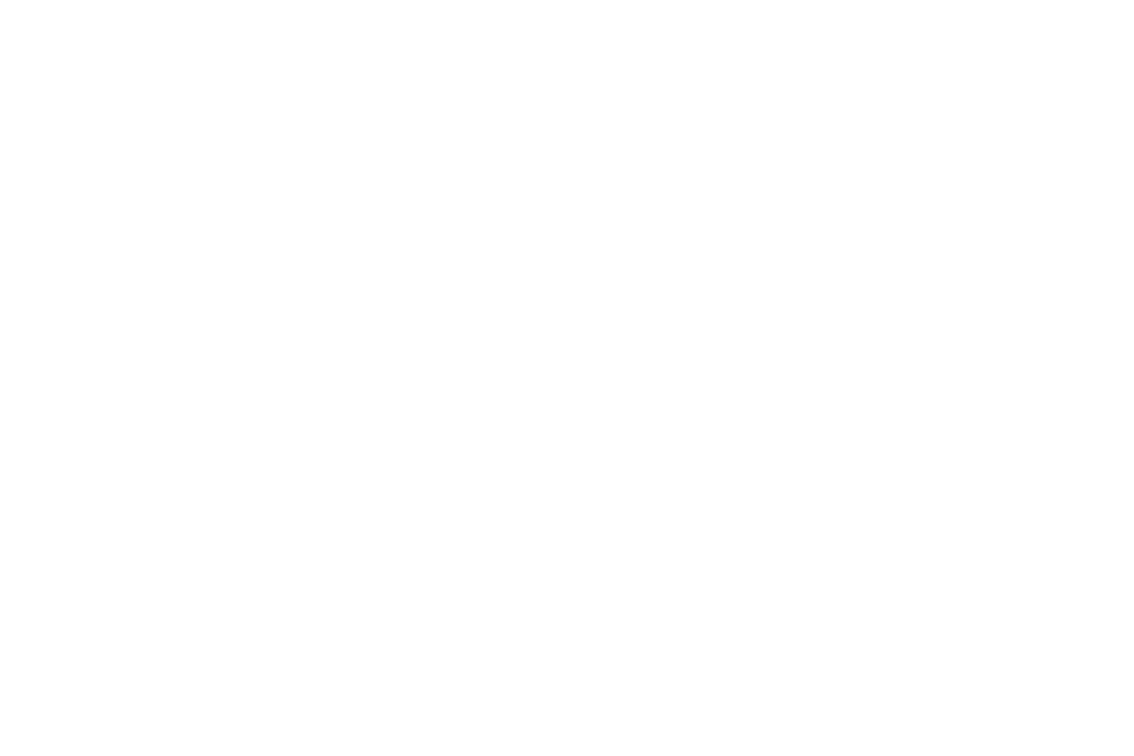
Черта нашего времени – непрофессионализм. Не должно быть журналистов без профильного образования. Почему мы считаем, что врач должен иметь соответствующий диплом, а писать может кто угодно?
В Москве есть дом-музей Марины Цветаевой, созданный медиком Надеждой Катаевой-Лыткиной. В 1941 году она окончила четвертый курс мединститута, ей досрочно выдали диплом и отправили на фронт. И произошла такая интересная история: Катаева-Лыткина три дня подряд ассистировала известному хирургу С.С. Юдину, а на третий день не выдержала нагрузки и упала в обморок. Когда ее привели в чувство, она продолжила операцию. В благодарность хирург подарил ей небольшой сборник Марины Цветаевой «Вечерний альбом». Надежда рассказывала, что была поражена уровнем этих стихов и тем, что она, несмотря на свой интерес к поэзии, о поэтессе никогда не слышала. Да, гуманитарное образование в Советском Союзе было идеологизированным, однозначно. И должно было соответствовать линии партии. Но, несмотря на это, оно не было плохим.
- Есть мнение, что гуманитарии в лучшем случае бесполезны. Условно говоря, это те самые языковеды, которые изучали беглые гласные в диалектах Удмуртии. В советское время их было очень много. А в худшем случае гуманитарные науки вредны, потому что были поставлены на службу существующей идеологии.
- Но мы же понимаем, что беглые гласные в диалектах народов Удмуртии никак идеологию Союза обслуживать не будут.
- Почему было так много тех же языковедов? Чтобы показать, что все языки равны. В рамках школьной программы, к примеру, до сих пор изучают некоторых авторов малых народов.
- Изучение местной литературы и умирающих языков – очень полезная вещь, оно обеспечивает культурное разнообразие. Локальный фольклор – это потрясающе. Но мы не можем говорить о том, что все авторы равны. Удмуртский поэт, известный только на родине, не равен Пушкину. Не всякая национальная литература становится мировой. А русская стала.
Очень распространена точка зрения, что гуманитарии бесполезны, но это глубочайшее заблуждение. Еще сто лет назад пришли к выводу, что без гуманитарного знания невозможно быть хорошим инженером или физиком.
- Гуманитарии говорят, что нужно делать технарям.
- Это подтверждает, что гуманитарное образование точно не бесполезно. Просто его эффект отложен. Должно пройти время, чтобы результаты были видны.
- Я вообще на самом деле против разделения на гуманитариев и технарей.
- Буквально неделю назад меня пригласили в Долгопрудный читать лекцию в физико-математическом лицее. Я не люблю выступать перед школьниками, потому что русскую классическую литературу, о которой я рассказываю, писали для взрослых. Кроме того, я подумал: это же технари, им будет неинтересно, а меня их скука быстро начнет раздражать. Но они с таким вниманием меня слушали, такие вопросы задавали… Я видел в их глазах заинтересованность и то, что им действительно не хватает таких занятий. Я даже вдохновился нашим будущим поколением.
- Журналистам нужно журналистское образование?
- Да, обязательно.
- Я знаю много журналистов, у которых его нет.
- А я знаю много врачей без медицинского образования, и они ужасные. С ними нельзя иметь дело. Пожалуй, черта нашего времени – непрофессионализм, который есть во многих сферах. Не должно быть журналистов без профильного образования. Почему мы считаем, что врач должен иметь соответствующий диплом, а писать может кто угодно?
- Но Чехов же писал?
- Ну и что? Чехов – врач, а не журналист. По поводу образования писателей я сомневаюсь. Это уже вопрос к Литинституту. Известна история с Бродским, когда на суде его спросили:
- Вы кто?
- Я поэт.
- А где вы учились?
- А я думал, это от Бога.
Действительно, писательство – это от Бога, журналистика – нет. Журналист должен учиться.
- А есть ли достойные современные писатели?
- Меня часто спрашивают, кто из современных писателей станет классиком. По этому поводу ничего не отвечу, потому что не знаю, а судить – это неблагодарная работа. Я небольшой специалист в современной литературе, но считаю, нам есть чем гордиться. Это старшее поколение писателей – Людмила Улицкая, Дина Рубина. Среднее поколение: Евгений Водолазкин, Алексей Иванов или недавно заявившая о себе Гузель Яхина. У нас есть что читать.
- Вопрос, который волнует всех родителей: как заставить ребенка полюбить чтение?
- Этот вопрос нужно задать школьным педагогам и учителям. Я могу рассказать только, как было принято в моей семье. У нас был целый ритуал: мы собирались и по очереди читали, а потом с чаем и печеньем обсуждали прочитанное. Я перенес традицию в свою семью. Моему сыну пять лет, и он точно знает, что независимо от обстоятельств и моей рабочей загруженности каждую субботу мы будем читать вслух. ///
- Есть мнение, что гуманитарии в лучшем случае бесполезны. Условно говоря, это те самые языковеды, которые изучали беглые гласные в диалектах Удмуртии. В советское время их было очень много. А в худшем случае гуманитарные науки вредны, потому что были поставлены на службу существующей идеологии.
- Но мы же понимаем, что беглые гласные в диалектах народов Удмуртии никак идеологию Союза обслуживать не будут.
- Почему было так много тех же языковедов? Чтобы показать, что все языки равны. В рамках школьной программы, к примеру, до сих пор изучают некоторых авторов малых народов.
- Изучение местной литературы и умирающих языков – очень полезная вещь, оно обеспечивает культурное разнообразие. Локальный фольклор – это потрясающе. Но мы не можем говорить о том, что все авторы равны. Удмуртский поэт, известный только на родине, не равен Пушкину. Не всякая национальная литература становится мировой. А русская стала.
Очень распространена точка зрения, что гуманитарии бесполезны, но это глубочайшее заблуждение. Еще сто лет назад пришли к выводу, что без гуманитарного знания невозможно быть хорошим инженером или физиком.
- Гуманитарии говорят, что нужно делать технарям.
- Это подтверждает, что гуманитарное образование точно не бесполезно. Просто его эффект отложен. Должно пройти время, чтобы результаты были видны.
- Я вообще на самом деле против разделения на гуманитариев и технарей.
- Буквально неделю назад меня пригласили в Долгопрудный читать лекцию в физико-математическом лицее. Я не люблю выступать перед школьниками, потому что русскую классическую литературу, о которой я рассказываю, писали для взрослых. Кроме того, я подумал: это же технари, им будет неинтересно, а меня их скука быстро начнет раздражать. Но они с таким вниманием меня слушали, такие вопросы задавали… Я видел в их глазах заинтересованность и то, что им действительно не хватает таких занятий. Я даже вдохновился нашим будущим поколением.
- Журналистам нужно журналистское образование?
- Да, обязательно.
- Я знаю много журналистов, у которых его нет.
- А я знаю много врачей без медицинского образования, и они ужасные. С ними нельзя иметь дело. Пожалуй, черта нашего времени – непрофессионализм, который есть во многих сферах. Не должно быть журналистов без профильного образования. Почему мы считаем, что врач должен иметь соответствующий диплом, а писать может кто угодно?
- Но Чехов же писал?
- Ну и что? Чехов – врач, а не журналист. По поводу образования писателей я сомневаюсь. Это уже вопрос к Литинституту. Известна история с Бродским, когда на суде его спросили:
- Вы кто?
- Я поэт.
- А где вы учились?
- А я думал, это от Бога.
Действительно, писательство – это от Бога, журналистика – нет. Журналист должен учиться.
- А есть ли достойные современные писатели?
- Меня часто спрашивают, кто из современных писателей станет классиком. По этому поводу ничего не отвечу, потому что не знаю, а судить – это неблагодарная работа. Я небольшой специалист в современной литературе, но считаю, нам есть чем гордиться. Это старшее поколение писателей – Людмила Улицкая, Дина Рубина. Среднее поколение: Евгений Водолазкин, Алексей Иванов или недавно заявившая о себе Гузель Яхина. У нас есть что читать.
- Вопрос, который волнует всех родителей: как заставить ребенка полюбить чтение?
- Этот вопрос нужно задать школьным педагогам и учителям. Я могу рассказать только, как было принято в моей семье. У нас был целый ритуал: мы собирались и по очереди читали, а потом с чаем и печеньем обсуждали прочитанное. Я перенес традицию в свою семью. Моему сыну пять лет, и он точно знает, что независимо от обстоятельств и моей рабочей загруженности каждую субботу мы будем читать вслух. ///
