В КВАДРАТЕ
С Любовью Владимировной Кочариной мы встретились в месте, где музыка встречается
с живописью. Дом Аллы Михайловны Галушко в очередной раз стал пристанищем для бесед о вечном. Мы говорим о языке искусства. О ценностях и цене, которую нужно заплатить за них.
О том, зашло ли в тупик содержание. А еще – о том, что скажут о нас и о нашем выборе потомки, глядя на наше наследие.
с живописью. Дом Аллы Михайловны Галушко в очередной раз стал пристанищем для бесед о вечном. Мы говорим о языке искусства. О ценностях и цене, которую нужно заплатить за них.
О том, зашло ли в тупик содержание. А еще – о том, что скажут о нас и о нашем выборе потомки, глядя на наше наследие.
– Любовь Владимировна, буду ли я права, если скажу, что искусство – всегда проекция состояния общества?
– Иногда прямая, иногда – обратная. Вы музыкой занимались?
– Доводилось.
– Значит, знаете, что такое запаздывающее разрешение. Вот сейчас у нас напряженная доминанта, потом доминантсептаккорд, квинтсекстаккорд, еще один, еще один, и только потом отложенное разрешение. Бывает и такая проекция – отложенная.
– Надолго?
– Тем ценнее возвращение к тонике.
– Жили ли мы в состоянии тоники?
– Конечно, такие периоды были. Устойчивость и спокойствие – среда, благоприятная для жизни, но не способствующая полету буревестника.
– Возвратом к тонике (пользуясь вашей терминологией), думаю, можно назвать искусство нидерландских художников XVII века, которых принято называть малыми голландцами. Выигравшие в беспощадной войне с Испанией, уставшие от голода, от революционного пафоса, от пепла Клааса, который так долго стучал в их сердцах, они хотели спокойной, обеспеченной, красивой жизни. И, конечно, когда Голландия стала замечательной буржуазной страной, когда она стала руководить европейской торговлей, голландские художники полюбили изображать ценности зарождающегося среднего класса. Мир вещей: обильный стол с омарами, красавица-дочка, играющая на пианино… Уютная, сытая жизнь. Жизнь, к которой всей душой стремились и мы в новой России XXI века. И есть даже ощущение, что она у нас была. Нашло ли это отражение в изобразительном искусстве? Что скажут о ценностях, которые мы исповедовали в этом историческом отрезке, те, кто будут изучать нас спустя столетия?
– Давайте сначала к голландцам вернемся, я как музейщик все равно с истории хочу начать. Там же не просто была уютная и сытая жизнь. К малым голландцам нельзя отнести Вермеера, хотя и с великим Рембрандтом в ряд его тоже не поставишь, потому что он не писал библейские сюжеты, не поднимал экзистенциальных вопросов.
По тематике своих работ он ближе к малым голландцам – женщина, примеряющая ожерелье, помните? Дама, читающая письмо, бокал лимонада… То есть та самая вроде бы уютная, полная довольства жизнь, жизнь, в которой присутствует хюгге – наслаждение материальным миром, наслаждение прозрачными, чистыми стеклами, волшебными фаянсовыми тарелками на стене… У Вермеера всего два пейзажа. И при этом его считают лучшим пейзажистом всех времен и народов. Знаете почему? Потому что с помощью красок ему удалось передать то, чего французские импрессионисты добились лишь спустя двести лет. Передать атмосферу, дыхание, влажность воздуха… Эти фантастические два его полотна повергли французских искусствоведов в оцепенение, когда они открыли их для себя где-то в начале XX века. «Когда это было?» – восклицали они. Полотна-то у него маленькие. Он не ставил себе глобальных целей. Уникальный живописец работал на простую задачу – передать атмосферу.
И разве все так просто с малыми голландцами и их буржуазными ценностями? Сравните фламандский и нидерландский натюрморт. Посмотрите на них внимательнее. Католическая Фландрия, оставшаяся под властью испанской короны, выстраивает пирамиду в натюрморте. У них есть центр – смысловой, композиционный, и есть то, что ниже. Это монархия. Она вроде бы условно обозначается, но обозначается. А что мы видим у кальвинистов-голландцев, которые восемьдесят лет воевали за свою независимость и победили? Вот стоит бокал, вот свисает шкурка от лимона, но такой строгой, выстроенной композиции нет. Они независимы. Понимаете? У них даже композиция строится по прихоти художника. Они выражают себя сво-бо-дно.
Возвращаясь к вашему вопросу, что скажут о нас потомки. Мы все еще живем на постсоветском пространстве – кто-то по нему ностальгирует, кто-то до сих пор переживает эйфорию перестройки. Как говорил Витя Думчев, у него в углу, знаете, где обычно у бабушек висят иконки, стоял портрет Ильича… Он обращался к нему: «Кормилец ты мой», потому что два раза в год, на 22 апреля и на
7 ноября, он гарантированно получал заказы. И вдруг мы – раз, и потеряли этого «кормильца» в один присест. Вместо хозяина и кормильца нам дали свободу. Как мы ею распорядились? Любимые мной Володя Чалый, Стас Кежов, Вячеслав Пичугин обратились к тем темам, которые раньше были под запретом. Чалый кинулся писать «Противостояние», еще какие-то вещи с политическим подтекстом. Борис Орехов обратился к мотивам «Мастера и Маргариты», причем через призму миросозерцания, напоминающего Сальвадора Дали или кого-то еще из сюрреалистов.
– Долго наслаждались свободой?
– Наслаждение длилось бы дольше, если бы не сопутствующие свободе обстоятельства – необходимость искать средства к существованию. Когда я пришла в музей, первое, на что обратила внимание, что Союз художников – это своего рода мафия. Своим статусом члены Союза дорожили весьма и поэтому не особо пропускали кого-то мимо себя в ряды профессионалов. Было очень смешно, когда один из действительно заслуженных мастеров сказал: «Мне говорят, что уже пора в народные продвигаться». А я всегда была ехидной: «Что значит «продвигаться»? По выслуге лет, что ли?»
Люди в основной своей массе не очень разбираются в искусстве и при выборе художника ориентируются на звания, им важно, чтобы на картине стояла подпись народного.
– Пока мы с вами говорили о нидерландском натюрморте, мне пришла в голову бредовая мысль: а вот Энди Уорхол с его консервированным супом – он не является последователем малых голландцев?))
– Как идея, доведенная до абсурда. Я бы сказала, в каком-то смысле – да, потому что и то и другое рассчитано на массового буржуазного платежеспособного зрителя.
Только для того, чтобы поймать и передать эту волшебную, непередаваемую атмосферу материального мира, голландцам требовалось мастерство. А чтобы выставить банку горохового супа, мастерства не надо. Поэтому мы и говорим, что это поп-арт. Вы посмотрите на картину Мейндерта Гоббемы «Аллея в Миддельхарнисе» и вспомните Иосифа Бродского: «Ни один живописец не напишет конец аллеи, а пишет аллею», а аллея – это золотистый свет, это воздух… А Уорхол, простите меня, использует практически типографские приемы. Это тираж.
– А Малевич?
– А что Малевич?
– Разве «Черный квадрат» – это не тираж? Разве здесь нужно мастерство?
– Да, здесь нужно мастерство. Здесь нужны мозги, простите. «Черный квадрат» – это первая буква нового алфавита. Это дизайн.
– То же самое можно сказать и про Уорхола, и про Дэмьена Херста с его рыбными консервами… А те, которые прибивают свои гениталии к брусчатке… Тоже хотят передать какую-то мысль. Я, кстати, когда готовилась к интервью, прочла высказывание некой Анны Познанской, старшего научного сотрудника Пушкинского музея. Она называет искусство XX-XXI веков искусством травмы.
– В каком-то смысле да.
– Мне очень понравилось это определение.
– Да, потому что на самом деле оно исходит либо от травмированных художников, либо адресовано травмированным зрителям. Оно подразумевает не экстатическое слияние с природой или впечатление влюбленности, а интеллектуальную загадку, миф.
– Может ли легко тиражируемое быть высоким?
– В наше время – запросто. Но как только оно выходит в тираж, оно обесценивается.
– А сколько «черных квадратов» мы имеем?
– А неважно сколько. Важно, что это на самом деле первая буква нового алфавита. Когда женщина надевает на себя черное, она прячется. Зато, если я повесила на черное платье синий шарфик, он уже не пропадет, он будет читаться ярче. И даже цвет лица или макияж заиграют по-другому, потому что черный цвет великолепным образом оттеняет все остальные цвета. Я бы даже сказала, что «Черный квадрат» – это победа над Солнцем. Был такой спектакль «Победа над Солнцем», там на заднике постепенно вырастал, вырастал, вырастал черный сегмент. Он рос до тех пор, пока не появился сплошь черный провал в другое пространство, в другой космос.
Не такая это простая вещь – «Черный квадрат» Малевича. И когда дети мне говорят: «Я тоже могу нарисовать «Черный квадрат», я отвечаю: «Так ты его придумай сначала». Почему квадрат? Почему не круг? Круг – это точка, точка – и все, понимаете? Квадрат имеет тенденцию раздвигать крылья в разные стороны, это тоже точка, но она бесконечная.
– А вам не кажется, что мы сейчас сами додумываем, придаем значение?
– Это он так придумал, это он срежиссировал, в том числе и нашу реакцию, «всехнюю» реакцию.
– …И мы приписываем смыслы, которых там нет, и мы додумываем то, чего он не думал?..
– Да нет. Как вам сказать-то? А вы видели его замечательные посудные ансамбли на фарфоровом заводе в Ленинграде? Видели? Вы же видите, что там… А «Похождения черного квадрата» видели?
– Там же дизайн начался?
– А дизайн – это не искусство уже, по-вашему?
– Искусство, но это другое искусство.
– Какое «другое»? Оно организует пространство. Вот Кандинский, у которого не было «Черного квадрата», но были совершенно уникальные абстрактные композиции… Он ведь так же, как Малевич, занимался дизайном в Баухаусе. А Баухаус – это Германия, это архитектурная художественная школа, из которой выросла вся американская изобразительная культура XX века, потому что, когда Гитлер закрыл Баухаус, художники во главе с Мис ван дер Роэ клином улетели в Штаты и сделали там Нью-Йорк и Чикаго. Вот эти знаменитые небоскребы, или, как у нас их по-украински назвали, «хмарочосы», – это же все оттуда, из Баухауса. А кто воспитывал тех архитекторов? Клее и Кандинский!
Вот я не очень порадовалась появлению «Москва-Сити», но теперь его уже никуда не денешь, эту архитектурную, так сказать, цитату. Хотя он вторичен, а первичны шедевры конца тридцатых годов. Мис ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбюзье своими дизайнерскими вещами создали совершенно новое пространство. Посмотрите на «Дом над водопадом»! Это ведь тоже дизайн, но как он меняет среду, в которой живет человек.
– Я нисколько не собиралась умалять значимость дизайна в нашей жизни, а лишь хотела сказать, что это другой вид искусства. И тот факт, что Энди Уорхола поставили в Пушкинском музее промеж Рафаэля и Джотто, мне кажется несколько странным.
– Я бы не стала помещать Энди Уорхола ни рядом с Рафаэлем, ни рядом с Малевичем. Потому что «Черный квардрат» – это другое сознание, с «Черным квадратом» надо строить мозги заново, но он дает строительный материал, понимаете? Потому что там есть связь с космосом. А у Энди Уорхола этого выхода в космос я не обнаруживаю. У него есть абсолютное попадание в сознание массового зрителя (почему мы и говорим про поп-арт), но массовый зритель – это не всегда самый лучший зритель, как и большинство, которое всегда не право.
Несколько лет назад на олимпиаде, посвященной современному искусству, ребята десятых классов 32-й школы на вопрос, какое произведение XX века вам больше всего нравится, почти хором ответили: «Черный квадрат» Малевича».
– Они, наверное, только его и запомнили))
– Нет, они называли и Фернана Леже, и Пикассо, но про этих говорили как-то дежурно, заученно, а про Малевича – нет. А когда я спросила, чем он вам так понравился, вот тогда разговор как раз зашел об этой грани между искусством эмоционально изобразительным и между искусством интеллектуально озадачивающим. «Черный квадрат» к интеллекту имеет прямое отношение.
– Вы сейчас очень важную тему подняли, важную для многих родителей – как «заставить полюбить»? Многие из нашего поколения травмированы тем, как родители истошно таскали нас по третьяковкам и эрмитажам. Это было мучительно, не менее мучительно, чем два часа подряд слушать сложную классическую музыку.
– Меня тоже в первый раз привели в Третьяковку в шесть лет, но мне повезло сразу, потому что мы пошли с иконного зала, и я остолбенела перед «Троицей» Рублева. Меня никто не готовил. Это было просто, как будто я антенна, и меня шарахнуло.
– Возможно, вам дано это от рождения. А если не дано? Можно ли разбудить?
– Иногда прямая, иногда – обратная. Вы музыкой занимались?
– Доводилось.
– Значит, знаете, что такое запаздывающее разрешение. Вот сейчас у нас напряженная доминанта, потом доминантсептаккорд, квинтсекстаккорд, еще один, еще один, и только потом отложенное разрешение. Бывает и такая проекция – отложенная.
– Надолго?
– Тем ценнее возвращение к тонике.
– Жили ли мы в состоянии тоники?
– Конечно, такие периоды были. Устойчивость и спокойствие – среда, благоприятная для жизни, но не способствующая полету буревестника.
– Возвратом к тонике (пользуясь вашей терминологией), думаю, можно назвать искусство нидерландских художников XVII века, которых принято называть малыми голландцами. Выигравшие в беспощадной войне с Испанией, уставшие от голода, от революционного пафоса, от пепла Клааса, который так долго стучал в их сердцах, они хотели спокойной, обеспеченной, красивой жизни. И, конечно, когда Голландия стала замечательной буржуазной страной, когда она стала руководить европейской торговлей, голландские художники полюбили изображать ценности зарождающегося среднего класса. Мир вещей: обильный стол с омарами, красавица-дочка, играющая на пианино… Уютная, сытая жизнь. Жизнь, к которой всей душой стремились и мы в новой России XXI века. И есть даже ощущение, что она у нас была. Нашло ли это отражение в изобразительном искусстве? Что скажут о ценностях, которые мы исповедовали в этом историческом отрезке, те, кто будут изучать нас спустя столетия?
– Давайте сначала к голландцам вернемся, я как музейщик все равно с истории хочу начать. Там же не просто была уютная и сытая жизнь. К малым голландцам нельзя отнести Вермеера, хотя и с великим Рембрандтом в ряд его тоже не поставишь, потому что он не писал библейские сюжеты, не поднимал экзистенциальных вопросов.
По тематике своих работ он ближе к малым голландцам – женщина, примеряющая ожерелье, помните? Дама, читающая письмо, бокал лимонада… То есть та самая вроде бы уютная, полная довольства жизнь, жизнь, в которой присутствует хюгге – наслаждение материальным миром, наслаждение прозрачными, чистыми стеклами, волшебными фаянсовыми тарелками на стене… У Вермеера всего два пейзажа. И при этом его считают лучшим пейзажистом всех времен и народов. Знаете почему? Потому что с помощью красок ему удалось передать то, чего французские импрессионисты добились лишь спустя двести лет. Передать атмосферу, дыхание, влажность воздуха… Эти фантастические два его полотна повергли французских искусствоведов в оцепенение, когда они открыли их для себя где-то в начале XX века. «Когда это было?» – восклицали они. Полотна-то у него маленькие. Он не ставил себе глобальных целей. Уникальный живописец работал на простую задачу – передать атмосферу.
И разве все так просто с малыми голландцами и их буржуазными ценностями? Сравните фламандский и нидерландский натюрморт. Посмотрите на них внимательнее. Католическая Фландрия, оставшаяся под властью испанской короны, выстраивает пирамиду в натюрморте. У них есть центр – смысловой, композиционный, и есть то, что ниже. Это монархия. Она вроде бы условно обозначается, но обозначается. А что мы видим у кальвинистов-голландцев, которые восемьдесят лет воевали за свою независимость и победили? Вот стоит бокал, вот свисает шкурка от лимона, но такой строгой, выстроенной композиции нет. Они независимы. Понимаете? У них даже композиция строится по прихоти художника. Они выражают себя сво-бо-дно.
Возвращаясь к вашему вопросу, что скажут о нас потомки. Мы все еще живем на постсоветском пространстве – кто-то по нему ностальгирует, кто-то до сих пор переживает эйфорию перестройки. Как говорил Витя Думчев, у него в углу, знаете, где обычно у бабушек висят иконки, стоял портрет Ильича… Он обращался к нему: «Кормилец ты мой», потому что два раза в год, на 22 апреля и на
7 ноября, он гарантированно получал заказы. И вдруг мы – раз, и потеряли этого «кормильца» в один присест. Вместо хозяина и кормильца нам дали свободу. Как мы ею распорядились? Любимые мной Володя Чалый, Стас Кежов, Вячеслав Пичугин обратились к тем темам, которые раньше были под запретом. Чалый кинулся писать «Противостояние», еще какие-то вещи с политическим подтекстом. Борис Орехов обратился к мотивам «Мастера и Маргариты», причем через призму миросозерцания, напоминающего Сальвадора Дали или кого-то еще из сюрреалистов.
– Долго наслаждались свободой?
– Наслаждение длилось бы дольше, если бы не сопутствующие свободе обстоятельства – необходимость искать средства к существованию. Когда я пришла в музей, первое, на что обратила внимание, что Союз художников – это своего рода мафия. Своим статусом члены Союза дорожили весьма и поэтому не особо пропускали кого-то мимо себя в ряды профессионалов. Было очень смешно, когда один из действительно заслуженных мастеров сказал: «Мне говорят, что уже пора в народные продвигаться». А я всегда была ехидной: «Что значит «продвигаться»? По выслуге лет, что ли?»
Люди в основной своей массе не очень разбираются в искусстве и при выборе художника ориентируются на звания, им важно, чтобы на картине стояла подпись народного.
– Пока мы с вами говорили о нидерландском натюрморте, мне пришла в голову бредовая мысль: а вот Энди Уорхол с его консервированным супом – он не является последователем малых голландцев?))
– Как идея, доведенная до абсурда. Я бы сказала, в каком-то смысле – да, потому что и то и другое рассчитано на массового буржуазного платежеспособного зрителя.
Только для того, чтобы поймать и передать эту волшебную, непередаваемую атмосферу материального мира, голландцам требовалось мастерство. А чтобы выставить банку горохового супа, мастерства не надо. Поэтому мы и говорим, что это поп-арт. Вы посмотрите на картину Мейндерта Гоббемы «Аллея в Миддельхарнисе» и вспомните Иосифа Бродского: «Ни один живописец не напишет конец аллеи, а пишет аллею», а аллея – это золотистый свет, это воздух… А Уорхол, простите меня, использует практически типографские приемы. Это тираж.
– А Малевич?
– А что Малевич?
– Разве «Черный квадрат» – это не тираж? Разве здесь нужно мастерство?
– Да, здесь нужно мастерство. Здесь нужны мозги, простите. «Черный квадрат» – это первая буква нового алфавита. Это дизайн.
– То же самое можно сказать и про Уорхола, и про Дэмьена Херста с его рыбными консервами… А те, которые прибивают свои гениталии к брусчатке… Тоже хотят передать какую-то мысль. Я, кстати, когда готовилась к интервью, прочла высказывание некой Анны Познанской, старшего научного сотрудника Пушкинского музея. Она называет искусство XX-XXI веков искусством травмы.
– В каком-то смысле да.
– Мне очень понравилось это определение.
– Да, потому что на самом деле оно исходит либо от травмированных художников, либо адресовано травмированным зрителям. Оно подразумевает не экстатическое слияние с природой или впечатление влюбленности, а интеллектуальную загадку, миф.
– Может ли легко тиражируемое быть высоким?
– В наше время – запросто. Но как только оно выходит в тираж, оно обесценивается.
– А сколько «черных квадратов» мы имеем?
– А неважно сколько. Важно, что это на самом деле первая буква нового алфавита. Когда женщина надевает на себя черное, она прячется. Зато, если я повесила на черное платье синий шарфик, он уже не пропадет, он будет читаться ярче. И даже цвет лица или макияж заиграют по-другому, потому что черный цвет великолепным образом оттеняет все остальные цвета. Я бы даже сказала, что «Черный квадрат» – это победа над Солнцем. Был такой спектакль «Победа над Солнцем», там на заднике постепенно вырастал, вырастал, вырастал черный сегмент. Он рос до тех пор, пока не появился сплошь черный провал в другое пространство, в другой космос.
Не такая это простая вещь – «Черный квадрат» Малевича. И когда дети мне говорят: «Я тоже могу нарисовать «Черный квадрат», я отвечаю: «Так ты его придумай сначала». Почему квадрат? Почему не круг? Круг – это точка, точка – и все, понимаете? Квадрат имеет тенденцию раздвигать крылья в разные стороны, это тоже точка, но она бесконечная.
– А вам не кажется, что мы сейчас сами додумываем, придаем значение?
– Это он так придумал, это он срежиссировал, в том числе и нашу реакцию, «всехнюю» реакцию.
– …И мы приписываем смыслы, которых там нет, и мы додумываем то, чего он не думал?..
– Да нет. Как вам сказать-то? А вы видели его замечательные посудные ансамбли на фарфоровом заводе в Ленинграде? Видели? Вы же видите, что там… А «Похождения черного квадрата» видели?
– Там же дизайн начался?
– А дизайн – это не искусство уже, по-вашему?
– Искусство, но это другое искусство.
– Какое «другое»? Оно организует пространство. Вот Кандинский, у которого не было «Черного квадрата», но были совершенно уникальные абстрактные композиции… Он ведь так же, как Малевич, занимался дизайном в Баухаусе. А Баухаус – это Германия, это архитектурная художественная школа, из которой выросла вся американская изобразительная культура XX века, потому что, когда Гитлер закрыл Баухаус, художники во главе с Мис ван дер Роэ клином улетели в Штаты и сделали там Нью-Йорк и Чикаго. Вот эти знаменитые небоскребы, или, как у нас их по-украински назвали, «хмарочосы», – это же все оттуда, из Баухауса. А кто воспитывал тех архитекторов? Клее и Кандинский!
Вот я не очень порадовалась появлению «Москва-Сити», но теперь его уже никуда не денешь, эту архитектурную, так сказать, цитату. Хотя он вторичен, а первичны шедевры конца тридцатых годов. Мис ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбюзье своими дизайнерскими вещами создали совершенно новое пространство. Посмотрите на «Дом над водопадом»! Это ведь тоже дизайн, но как он меняет среду, в которой живет человек.
– Я нисколько не собиралась умалять значимость дизайна в нашей жизни, а лишь хотела сказать, что это другой вид искусства. И тот факт, что Энди Уорхола поставили в Пушкинском музее промеж Рафаэля и Джотто, мне кажется несколько странным.
– Я бы не стала помещать Энди Уорхола ни рядом с Рафаэлем, ни рядом с Малевичем. Потому что «Черный квардрат» – это другое сознание, с «Черным квадратом» надо строить мозги заново, но он дает строительный материал, понимаете? Потому что там есть связь с космосом. А у Энди Уорхола этого выхода в космос я не обнаруживаю. У него есть абсолютное попадание в сознание массового зрителя (почему мы и говорим про поп-арт), но массовый зритель – это не всегда самый лучший зритель, как и большинство, которое всегда не право.
Несколько лет назад на олимпиаде, посвященной современному искусству, ребята десятых классов 32-й школы на вопрос, какое произведение XX века вам больше всего нравится, почти хором ответили: «Черный квадрат» Малевича».
– Они, наверное, только его и запомнили))
– Нет, они называли и Фернана Леже, и Пикассо, но про этих говорили как-то дежурно, заученно, а про Малевича – нет. А когда я спросила, чем он вам так понравился, вот тогда разговор как раз зашел об этой грани между искусством эмоционально изобразительным и между искусством интеллектуально озадачивающим. «Черный квадрат» к интеллекту имеет прямое отношение.
– Вы сейчас очень важную тему подняли, важную для многих родителей – как «заставить полюбить»? Многие из нашего поколения травмированы тем, как родители истошно таскали нас по третьяковкам и эрмитажам. Это было мучительно, не менее мучительно, чем два часа подряд слушать сложную классическую музыку.
– Меня тоже в первый раз привели в Третьяковку в шесть лет, но мне повезло сразу, потому что мы пошли с иконного зала, и я остолбенела перед «Троицей» Рублева. Меня никто не готовил. Это было просто, как будто я антенна, и меня шарахнуло.
– Возможно, вам дано это от рождения. А если не дано? Можно ли разбудить?
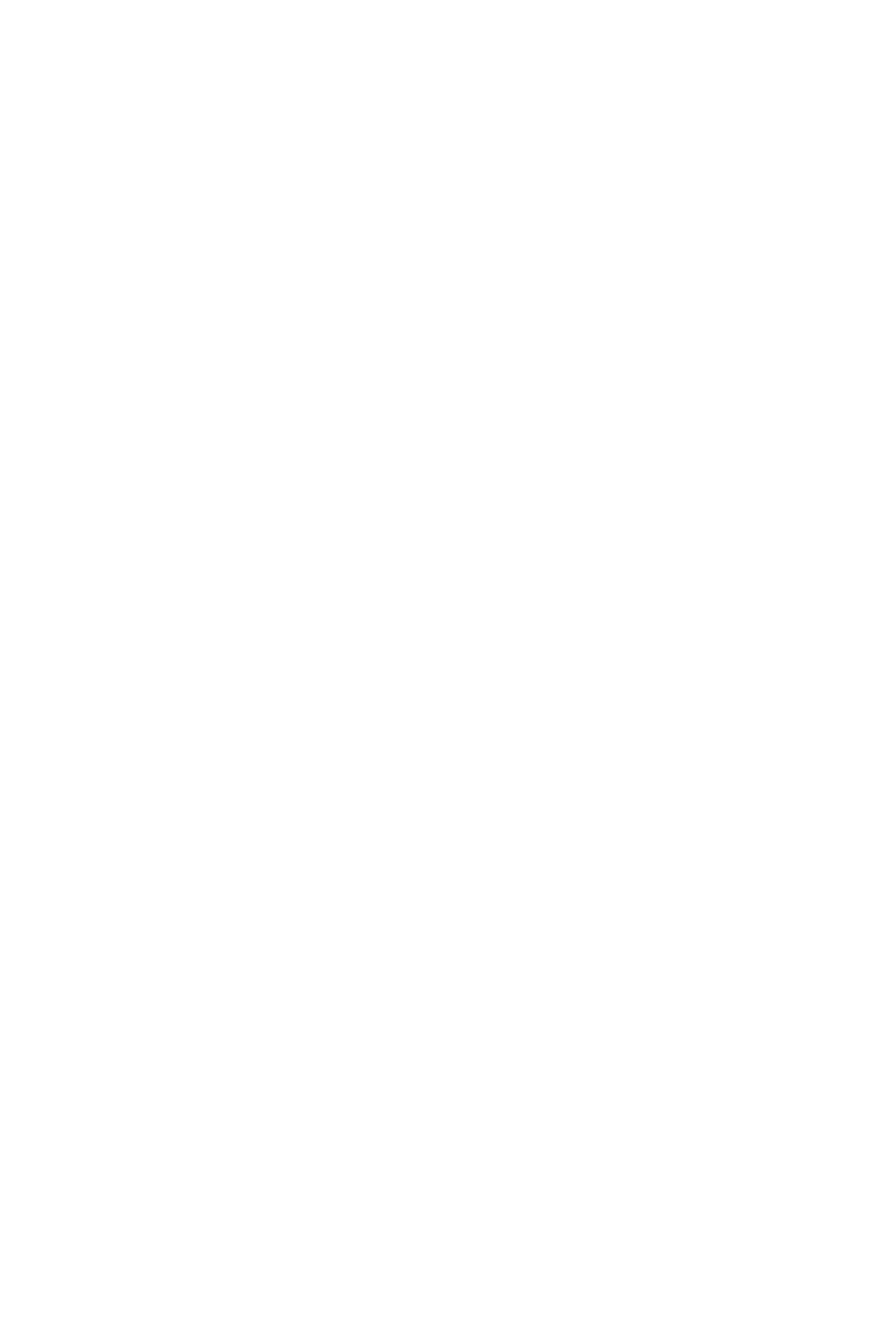
– Бог его знает, по-моему, это называется воспитание чувств.
Когда ко мне приходят маленькие дети, я им, конечно, не говорю про четыре стадии эмоционального восприятия произведения искусства, я могу только несколько слов сказать либо о герое, если это человек, либо о пейзаже, может, даже стихи прочитать какие-то… Когда я работала в Эрмитаже (у меня там практика была) и рысью пробегала однажды по залам фламандской и голландской живописи, вдруг увидела, как на меня посмотрел портрет неизвестного молодого человека. Я подумала: «Надо делать выставку одной картины». И мы ее сделали. Несколько раз мы устраивали такие выставки, и одна из них в полной мере осуществила мою затею – это была работа Айвазовского «Прощание». Там нет никаких «девятых валов», а только лодка контрабандиста, золотисто-розовый закат и семья этого контрабандиста, прощающаяся с ним. Судя по всему, героя уже ждала фелюга под парусом, которая должна была отвезти его куда-нибудь в Италию или Грецию. И вот эта картина стоит у меня одна на подрамнике. Кругом в стеклянных витринах – другие работы Айвазовского, репродукции, понятно, а это – подлинник. Мы его очень правильно высветили, так, чтобы возникло ощущение, что полотно светится. Рядом стояли какие-то кушеточки маленькие, и можно было сесть, и звучала музыка. Просто молча можно было сидеть, смотреть и слушать. Потом на эту выставку стали ходить классы. Я усаживала детей и рассказывала про Айвазовского. А еще круче было, когда к нам привезли копию рембрандтовской «Данаи». Ту, с которой делали реставрацию после того дикого нападения в 1985-м. Нападение-то практически при мне было. Я тогда еще училась, и у моего однокурсника папа был реставратором в Эрмитаже, поэтому мы узнали о событии день в день и, конечно, были в ужасе. Потом двенадцать лет шла реставрация…
– Какое-то время Эрмитажу ведь удавалось скрывать это, да?
– Нет, сообщили о нападении сразу, это был шок, такое невозможно скрыть. Двенадцать лет шла реставрация, и про «Данаю» забыли. А самая лучшая копия (это выяснилось путем сравнения) находилась тогда в Омске, в музее имени Врубеля, ее забрали в Петербург, и отчасти с ее помощью проходил длительный и очень болезненный процесс восстановления.
– Картина потеряла в цене?
– Картина, безусловно, потеряла в цене, но не в ценности.
– Вы согласны с Кончаловским, который считает, что рынок победил искусство?
– Полагаю, что это война без победителей, потому что конца ей нет. Это временная победа, я бы так сказала. Это победа не в войне, а в отдельной битве. В девяностых у нас в городе работал замечательный художник (к сожалению, он сейчас болен, не пишет пока), но он был классным портретистом буквально до тех пор, пока не вышел на рынок. Одно время он расписывал храмы, но, потеряв социальный заказ, потеряв «кормильца», он (как и многие) был вынужден учитывать веления времени. И вот ему начали заказывать портреты женщин в кольцах, портреты «английских» леди XIX века…
– Жесть.
– Да, жесть. Я спросила его: «Как ты это делаешь?» – «Детей-то кормить надо», – был ответ. А однажды заказчик попросил написать портрет своей жены в образе Данаи (!). Написал… Чего не сделаешь ради детей. Вот это и была та самая победа рынка. Победа-беда. Но все равно она неокончательная.
– Говоря о победе рынка, Андрей Сергеевич имел в виду, скорее, другое. Не это мелкое мещанство, которое наиболее ярко демонстрирует господин Шилов…
– Шилов это демонстрировал еще в советские времена, почему и получил галерею.
– Да. Кончаловский имел в виду, что сегодня произведения искусства зачастую рассматриваются с точки зрения ликвидности…
– Рассматриваются опять-таки кем? Заказчиком или художником? Для меня самое страшное, что это сейчас внедрено в сознание художника. Художник делает работу, чтобы ее продать.
– Мне не кажется это страшным, ведь многие художники прежних веков рисовали на заказ.
– Да, все они писали на заказ, но у них были очень недурно подготовленные заказчики, например…
– Лоренцо Великолепный?
– Конечно! И эти заказчики были в состоянии отличить работы Боттичелли или Микеланджело от работ людей, менее подготовленных с точки зрения профессии. А у нас… Мне бы такую «Данаю» даже за шкаф спрятать не захотелось! А люди взяли. И гордятся, потому что там подпись стоит. Разруха, как говорил профессор Преображенский, начинается в головах.
– Мы же понимаем, почему это произошло. Люди, которые еще вчера были заслуженными пролетариями, сегодня обрели капиталы, а вместе с тем способность платить и заказывать музыку. Беда только, что капиталы они обрели быстрее, чем гуманитарное образование…
– Гуманитарное образование у нас, к сожалению, не на самом высоком уровне. Так было и раньше, а сегодня культура вообще никого не волнует. Я все жду и жду, когда у нас появится закон, который позволит людям покупать произведения искусства, передавать их в музеи или спонсировать театры, и чтобы потом их не облагали налогом. У нас нет сильного министра культуры. Нет человека с политическим весом, скажем, второй Фурцевой, которая могла бы лоббировать интересы вверенной сферы. Это должен быть очень энергичный человек, потому что вопросы культуры в государстве, окруженном кольцом врагов, – вещь далеко не приоритетная. Последние события тому лишнее подтверждение.
– Вот еще из Кончаловского: сегодняшний язык искусства зашел в тупик, ибо зашло в тупик содержание. Согласны?
– Европейская школа высокого мастерства действительно несколько подрастерялась, у меня была возможность убедиться в этом, когда отряд курганских художников отправился в Италию, в город Руфино, который был у нас побратимом. Итальянцев поразило, просто вызвало потрясение то, насколько хороший, крепкий рисунок продемонстрировал Геннадий Иванович Иванчин, который сделал набросок чуть ли не на салфетке. И это итальянцы! Итальянцы, которые опираются на искусство эпохи Возрождения. Другое дело, что стало этому причиной? Возможно, проблемы с мастерством возникли потому, что футуристы достаточно сознательно разрушали пространство музеев? Вспомните манифест «Пощечина общественному вкусу»… Похоже, что вместе с устаревшими эстетическими ценностями с корабля современности сбросили и мастерство.
Но у нас, например, в Мухинском был очень классный рисунок. А то, что я увидела сегодня в Академии дизайна имени Штиглица, меня не вполне удовлетворило. Это может быть волнообразный процесс. Клан педагогов высочайшего класса, у которых учились мы, уже ушел. Я не знаю, кто пришел им на смену, надеюсь, что это люди академически воспитанные, подготовленные. Но я знаю, что у нас реставраторы были великолепные, потому что между лекциями в академии я забредала в мастерскую реставраторов, к скульпторам, графикам. Обучение в Академии художеств в Питере тем и ценно, что оно не всухомятку, как в УрГУ: мы выходили из аудитории и, нашпигованные теорией, шли к практикам.
Когда ко мне приходят маленькие дети, я им, конечно, не говорю про четыре стадии эмоционального восприятия произведения искусства, я могу только несколько слов сказать либо о герое, если это человек, либо о пейзаже, может, даже стихи прочитать какие-то… Когда я работала в Эрмитаже (у меня там практика была) и рысью пробегала однажды по залам фламандской и голландской живописи, вдруг увидела, как на меня посмотрел портрет неизвестного молодого человека. Я подумала: «Надо делать выставку одной картины». И мы ее сделали. Несколько раз мы устраивали такие выставки, и одна из них в полной мере осуществила мою затею – это была работа Айвазовского «Прощание». Там нет никаких «девятых валов», а только лодка контрабандиста, золотисто-розовый закат и семья этого контрабандиста, прощающаяся с ним. Судя по всему, героя уже ждала фелюга под парусом, которая должна была отвезти его куда-нибудь в Италию или Грецию. И вот эта картина стоит у меня одна на подрамнике. Кругом в стеклянных витринах – другие работы Айвазовского, репродукции, понятно, а это – подлинник. Мы его очень правильно высветили, так, чтобы возникло ощущение, что полотно светится. Рядом стояли какие-то кушеточки маленькие, и можно было сесть, и звучала музыка. Просто молча можно было сидеть, смотреть и слушать. Потом на эту выставку стали ходить классы. Я усаживала детей и рассказывала про Айвазовского. А еще круче было, когда к нам привезли копию рембрандтовской «Данаи». Ту, с которой делали реставрацию после того дикого нападения в 1985-м. Нападение-то практически при мне было. Я тогда еще училась, и у моего однокурсника папа был реставратором в Эрмитаже, поэтому мы узнали о событии день в день и, конечно, были в ужасе. Потом двенадцать лет шла реставрация…
– Какое-то время Эрмитажу ведь удавалось скрывать это, да?
– Нет, сообщили о нападении сразу, это был шок, такое невозможно скрыть. Двенадцать лет шла реставрация, и про «Данаю» забыли. А самая лучшая копия (это выяснилось путем сравнения) находилась тогда в Омске, в музее имени Врубеля, ее забрали в Петербург, и отчасти с ее помощью проходил длительный и очень болезненный процесс восстановления.
– Картина потеряла в цене?
– Картина, безусловно, потеряла в цене, но не в ценности.
– Вы согласны с Кончаловским, который считает, что рынок победил искусство?
– Полагаю, что это война без победителей, потому что конца ей нет. Это временная победа, я бы так сказала. Это победа не в войне, а в отдельной битве. В девяностых у нас в городе работал замечательный художник (к сожалению, он сейчас болен, не пишет пока), но он был классным портретистом буквально до тех пор, пока не вышел на рынок. Одно время он расписывал храмы, но, потеряв социальный заказ, потеряв «кормильца», он (как и многие) был вынужден учитывать веления времени. И вот ему начали заказывать портреты женщин в кольцах, портреты «английских» леди XIX века…
– Жесть.
– Да, жесть. Я спросила его: «Как ты это делаешь?» – «Детей-то кормить надо», – был ответ. А однажды заказчик попросил написать портрет своей жены в образе Данаи (!). Написал… Чего не сделаешь ради детей. Вот это и была та самая победа рынка. Победа-беда. Но все равно она неокончательная.
– Говоря о победе рынка, Андрей Сергеевич имел в виду, скорее, другое. Не это мелкое мещанство, которое наиболее ярко демонстрирует господин Шилов…
– Шилов это демонстрировал еще в советские времена, почему и получил галерею.
– Да. Кончаловский имел в виду, что сегодня произведения искусства зачастую рассматриваются с точки зрения ликвидности…
– Рассматриваются опять-таки кем? Заказчиком или художником? Для меня самое страшное, что это сейчас внедрено в сознание художника. Художник делает работу, чтобы ее продать.
– Мне не кажется это страшным, ведь многие художники прежних веков рисовали на заказ.
– Да, все они писали на заказ, но у них были очень недурно подготовленные заказчики, например…
– Лоренцо Великолепный?
– Конечно! И эти заказчики были в состоянии отличить работы Боттичелли или Микеланджело от работ людей, менее подготовленных с точки зрения профессии. А у нас… Мне бы такую «Данаю» даже за шкаф спрятать не захотелось! А люди взяли. И гордятся, потому что там подпись стоит. Разруха, как говорил профессор Преображенский, начинается в головах.
– Мы же понимаем, почему это произошло. Люди, которые еще вчера были заслуженными пролетариями, сегодня обрели капиталы, а вместе с тем способность платить и заказывать музыку. Беда только, что капиталы они обрели быстрее, чем гуманитарное образование…
– Гуманитарное образование у нас, к сожалению, не на самом высоком уровне. Так было и раньше, а сегодня культура вообще никого не волнует. Я все жду и жду, когда у нас появится закон, который позволит людям покупать произведения искусства, передавать их в музеи или спонсировать театры, и чтобы потом их не облагали налогом. У нас нет сильного министра культуры. Нет человека с политическим весом, скажем, второй Фурцевой, которая могла бы лоббировать интересы вверенной сферы. Это должен быть очень энергичный человек, потому что вопросы культуры в государстве, окруженном кольцом врагов, – вещь далеко не приоритетная. Последние события тому лишнее подтверждение.
– Вот еще из Кончаловского: сегодняшний язык искусства зашел в тупик, ибо зашло в тупик содержание. Согласны?
– Европейская школа высокого мастерства действительно несколько подрастерялась, у меня была возможность убедиться в этом, когда отряд курганских художников отправился в Италию, в город Руфино, который был у нас побратимом. Итальянцев поразило, просто вызвало потрясение то, насколько хороший, крепкий рисунок продемонстрировал Геннадий Иванович Иванчин, который сделал набросок чуть ли не на салфетке. И это итальянцы! Итальянцы, которые опираются на искусство эпохи Возрождения. Другое дело, что стало этому причиной? Возможно, проблемы с мастерством возникли потому, что футуристы достаточно сознательно разрушали пространство музеев? Вспомните манифест «Пощечина общественному вкусу»… Похоже, что вместе с устаревшими эстетическими ценностями с корабля современности сбросили и мастерство.
Но у нас, например, в Мухинском был очень классный рисунок. А то, что я увидела сегодня в Академии дизайна имени Штиглица, меня не вполне удовлетворило. Это может быть волнообразный процесс. Клан педагогов высочайшего класса, у которых учились мы, уже ушел. Я не знаю, кто пришел им на смену, надеюсь, что это люди академически воспитанные, подготовленные. Но я знаю, что у нас реставраторы были великолепные, потому что между лекциями в академии я забредала в мастерскую реставраторов, к скульпторам, графикам. Обучение в Академии художеств в Питере тем и ценно, что оно не всухомятку, как в УрГУ: мы выходили из аудитории и, нашпигованные теорией, шли к практикам.
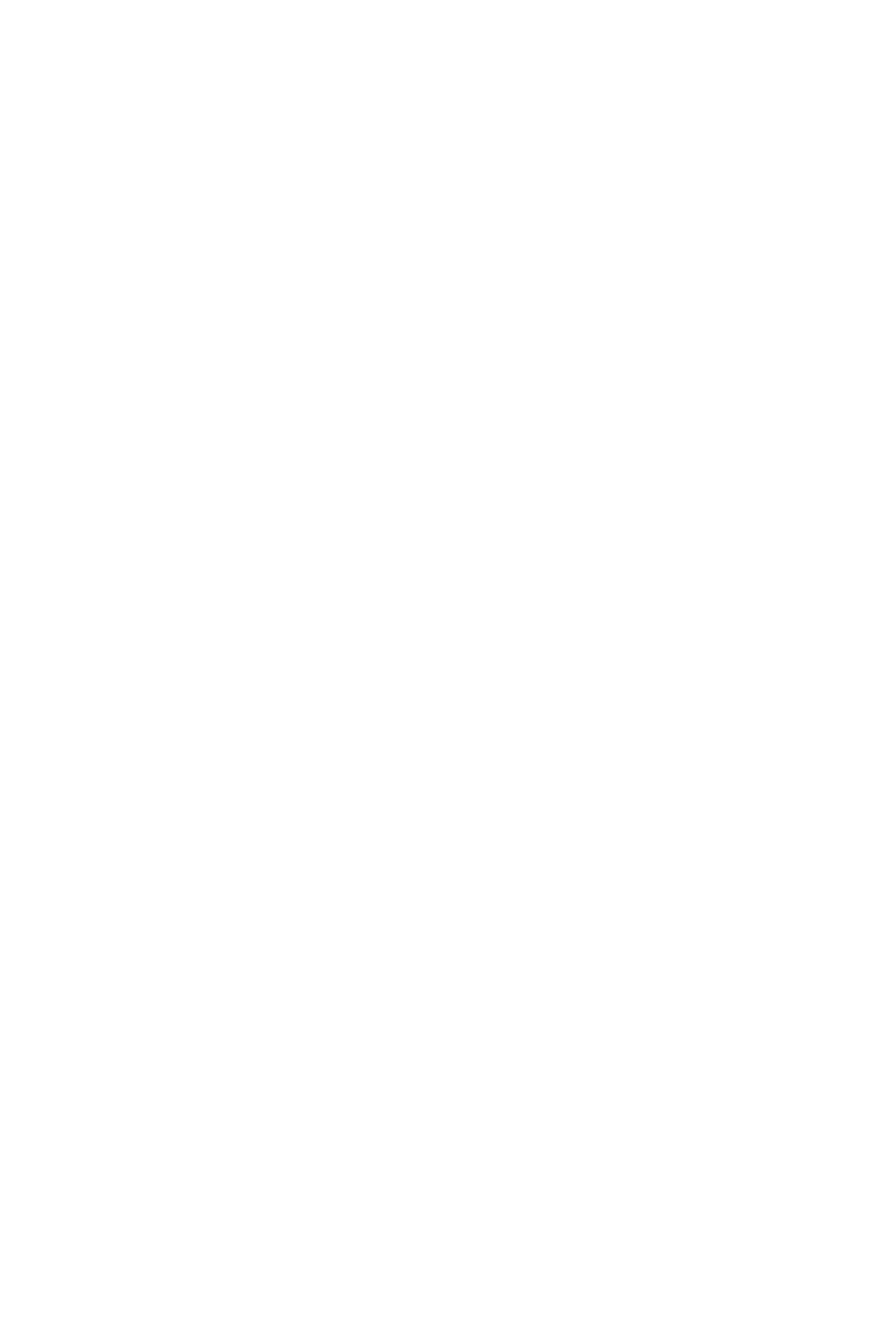
– А рисунком вы владеете?
– Мы сдавали рисунок. Но соперничать с Геннадием Ивановичем или с Борей Ореховым я бы не стала. С Германом могла бы… Я все-таки искусствовед, не художник.
Однажды у меня был прямой контакт с упомянутым уже Шиловым. И он так, знаете, вертя какой-то гигантский алмаз на пальце, уронил: «Не спал сегодня всю ночь». Я в своем духе: «Совесть, наверное, мучила?» – «Почему совесть?» Потому что.
– Что дает человеку погруженность в искусство?
– Ой, много чего. Искусство – это ведь божественная игра, и когда вы от стадии сюжетного прочтения (что изображено) переходите сначала на второй уровень – ассоциативный, когда вы как зритель уже чуть-чуть входите в картину, когда начинаете видеть что-то, связанное с вами лично… Тут начинается магия. Третий уровень предполагает, что у вас, во-первых, есть свой эмоциональный опыт, а во-вторых, что вы в принципе не деревяшка и способны над вымыслом слезами обливаться. Если вы в состоянии вчувствоваться в картину, то между вами и произведением возникнет единое силовое поле. И вы испытаете катарсис.
Искусство, знаете, чем коварно? Оно требует человека с потрохами. Целиком. Наполовину не получается.
– А вы согласны с тем, что не надо смотреть репродукции?
– Не согласна. Я сама регулярно их показываю, а иначе как учиться? Прадо и Лувр хороши, но, во-первых, они далеко, а во-вторых, сначала надо узнать хоть что-то. Когда я преподавала в КГУ (не очень долго, пять лет я там выдержала), я показывала ребятам репродукции, но всегда говорила при этом: «От репродукций вы никогда не испытаете, пардон, оргазма, потому что это пересказ».
– Ну вот и зачем тогда?
– Чтобы узнать, что есть такая картина, чтобы познакомиться с художником, с историей создания полотна. Как я буду рассказывать о композиции, не имея на руках даже репродукции? Конечно, совсем не тот свет, не те цвета. Но те будут только в оригинале! Ну, в самом лучшем случае, если вы найдете альбомы итальянского издательства SKIRA, – вот там будет близко к истине. Они снимают очень профессионально, с боковой подсветкой, там даже фактуру, кажется, потрогать можно. В России я знаю только одно издательство, которое неплохо снимает произведения искусства, – «Аврора», очень хорошее, но до SKIRA не дотягивает.
Несколько моих учеников под впечатлением от разговоров о подлиннике и оригинале поехали на каникулах – одни в Рим, другие во Флоренцию. Я напутствовала: походите, посмотрите на все живьем, если хотите ощутить, что такое архитектурное пространство, просто необходимо оказаться на площади перед собором Святого Петра. Потом, по возвращении, они просто из себя выходили, чтобы объяснить всем, что такое пространство. Но пока сам не попадешь туда, не поймешь. Представьте, что вы идете по Дворцовой площади от Эрмитажа в сторону Триумфальной арки. Волей-неволей вы плечики-то развернете, потому что арка – триумфальная. Развернете на уровне подсознания. Вы пойдете туда гордо, как триумфатор. Римляне-то совсем не дураки были, когда эти арки строили. Вот, извините, какая от них польза? Они же такими прагматиками были, римляне эти! Они строили акведуки, дороги, по которым шли завоевывать. А причем тут триумфальная арка-то? А она давала ощущение победы и того, что ты в этой жизни что-то сделал. Она давала удивительные чувства.
– Каким должен быть современный музей?
– Во-первых, открытым. Открытым для детей. В этом отношении у нас сейчас много делается. В попытках сделать музей более обитаемым проводится множество разных мастер-классов, игр, театрализованных экскурсий… Но одно дело – привлечь, а другое – открыть для зрителя мир искусства, сделать так, чтобы одухотворенный досуг стал потребностью. Не всегда это получается одинаково успешно. Не помню, у кого, у Ростроповича или у Кабалевского, спросили: «А что делать, чтобы научиться слушать классическую музыку?» – «Что делать? Слушать ее».
Вот вы говорите, что не надо показывать репродукции. А ведь в искусстве очень важна такая вещь, как радость узнавания. Пришел в Эрмитаж и – «Батюшки, это же та самая Мадонна, которую я в учебнике видел! Или на пакете)) Ее Леонардо да Винчи написал!»
– Да, кружки с «Мадонной», шарфики с «Весной»…
– Бывает и хуже. Я видела пепельницу, где была Джоконда, об которую тушили окурки. Согласна, это крайняя степень рекламы. В этом есть и плюсы, и минусы, как обычно. Когда коммерциализация и тираж не имеют чувства меры – это ужасно.
Но все же, отвечая на ваш главный вопрос, я не могу согласиться с тем, что рынок победил искусство. Точно не повсеместно. Возможно, эта болезнь поражает жителей больших городов, где художнику трудно устоять от соблазнов, где искушения и травмы преобладают. Но остается еще очень много профессионалов, которые работают не то чтобы сами для себя, но, во всяком случае, сообразуясь с собственным мнением о том, что есть искусство. Они в меньшей степени зависят от внешних обстоятельств. Они сидят по кельям и пишут то, во что верят. Они приходят в восторг от закатов или от ребенка, который смотрит чистыми глазами и прижимает к себе голову собаки. Это счастливые люди, и они транслируют свое счастье в мир. Они же все разные, художники-то. Часто очень талантливые и многоликие. ///
– Мы сдавали рисунок. Но соперничать с Геннадием Ивановичем или с Борей Ореховым я бы не стала. С Германом могла бы… Я все-таки искусствовед, не художник.
Однажды у меня был прямой контакт с упомянутым уже Шиловым. И он так, знаете, вертя какой-то гигантский алмаз на пальце, уронил: «Не спал сегодня всю ночь». Я в своем духе: «Совесть, наверное, мучила?» – «Почему совесть?» Потому что.
– Что дает человеку погруженность в искусство?
– Ой, много чего. Искусство – это ведь божественная игра, и когда вы от стадии сюжетного прочтения (что изображено) переходите сначала на второй уровень – ассоциативный, когда вы как зритель уже чуть-чуть входите в картину, когда начинаете видеть что-то, связанное с вами лично… Тут начинается магия. Третий уровень предполагает, что у вас, во-первых, есть свой эмоциональный опыт, а во-вторых, что вы в принципе не деревяшка и способны над вымыслом слезами обливаться. Если вы в состоянии вчувствоваться в картину, то между вами и произведением возникнет единое силовое поле. И вы испытаете катарсис.
Искусство, знаете, чем коварно? Оно требует человека с потрохами. Целиком. Наполовину не получается.
– А вы согласны с тем, что не надо смотреть репродукции?
– Не согласна. Я сама регулярно их показываю, а иначе как учиться? Прадо и Лувр хороши, но, во-первых, они далеко, а во-вторых, сначала надо узнать хоть что-то. Когда я преподавала в КГУ (не очень долго, пять лет я там выдержала), я показывала ребятам репродукции, но всегда говорила при этом: «От репродукций вы никогда не испытаете, пардон, оргазма, потому что это пересказ».
– Ну вот и зачем тогда?
– Чтобы узнать, что есть такая картина, чтобы познакомиться с художником, с историей создания полотна. Как я буду рассказывать о композиции, не имея на руках даже репродукции? Конечно, совсем не тот свет, не те цвета. Но те будут только в оригинале! Ну, в самом лучшем случае, если вы найдете альбомы итальянского издательства SKIRA, – вот там будет близко к истине. Они снимают очень профессионально, с боковой подсветкой, там даже фактуру, кажется, потрогать можно. В России я знаю только одно издательство, которое неплохо снимает произведения искусства, – «Аврора», очень хорошее, но до SKIRA не дотягивает.
Несколько моих учеников под впечатлением от разговоров о подлиннике и оригинале поехали на каникулах – одни в Рим, другие во Флоренцию. Я напутствовала: походите, посмотрите на все живьем, если хотите ощутить, что такое архитектурное пространство, просто необходимо оказаться на площади перед собором Святого Петра. Потом, по возвращении, они просто из себя выходили, чтобы объяснить всем, что такое пространство. Но пока сам не попадешь туда, не поймешь. Представьте, что вы идете по Дворцовой площади от Эрмитажа в сторону Триумфальной арки. Волей-неволей вы плечики-то развернете, потому что арка – триумфальная. Развернете на уровне подсознания. Вы пойдете туда гордо, как триумфатор. Римляне-то совсем не дураки были, когда эти арки строили. Вот, извините, какая от них польза? Они же такими прагматиками были, римляне эти! Они строили акведуки, дороги, по которым шли завоевывать. А причем тут триумфальная арка-то? А она давала ощущение победы и того, что ты в этой жизни что-то сделал. Она давала удивительные чувства.
– Каким должен быть современный музей?
– Во-первых, открытым. Открытым для детей. В этом отношении у нас сейчас много делается. В попытках сделать музей более обитаемым проводится множество разных мастер-классов, игр, театрализованных экскурсий… Но одно дело – привлечь, а другое – открыть для зрителя мир искусства, сделать так, чтобы одухотворенный досуг стал потребностью. Не всегда это получается одинаково успешно. Не помню, у кого, у Ростроповича или у Кабалевского, спросили: «А что делать, чтобы научиться слушать классическую музыку?» – «Что делать? Слушать ее».
Вот вы говорите, что не надо показывать репродукции. А ведь в искусстве очень важна такая вещь, как радость узнавания. Пришел в Эрмитаж и – «Батюшки, это же та самая Мадонна, которую я в учебнике видел! Или на пакете)) Ее Леонардо да Винчи написал!»
– Да, кружки с «Мадонной», шарфики с «Весной»…
– Бывает и хуже. Я видела пепельницу, где была Джоконда, об которую тушили окурки. Согласна, это крайняя степень рекламы. В этом есть и плюсы, и минусы, как обычно. Когда коммерциализация и тираж не имеют чувства меры – это ужасно.
Но все же, отвечая на ваш главный вопрос, я не могу согласиться с тем, что рынок победил искусство. Точно не повсеместно. Возможно, эта болезнь поражает жителей больших городов, где художнику трудно устоять от соблазнов, где искушения и травмы преобладают. Но остается еще очень много профессионалов, которые работают не то чтобы сами для себя, но, во всяком случае, сообразуясь с собственным мнением о том, что есть искусство. Они в меньшей степени зависят от внешних обстоятельств. Они сидят по кельям и пишут то, во что верят. Они приходят в восторг от закатов или от ребенка, который смотрит чистыми глазами и прижимает к себе голову собаки. Это счастливые люди, и они транслируют свое счастье в мир. Они же все разные, художники-то. Часто очень талантливые и многоликие. ///
