СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ДЕНЬГИ
ИСКУССТВО НЕВОЙНЫ
В знаменитом трактате «Искусство войны» выдающийся стратег древности Сунь-Цзы убеждает: «Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике». Коуч и юрист Ольга Попова, управляющий Консалтинговой компанией «Лигал Эксперт», вторит этой мысли: с правильно настроенным клиентом можно свернуть горы. Мы поговорили с ней о том, как может изменить условия игры обновленный закон о банкротстве, почему не стоит относиться к противнику как к врагу и как оставлять обиды в стороне.
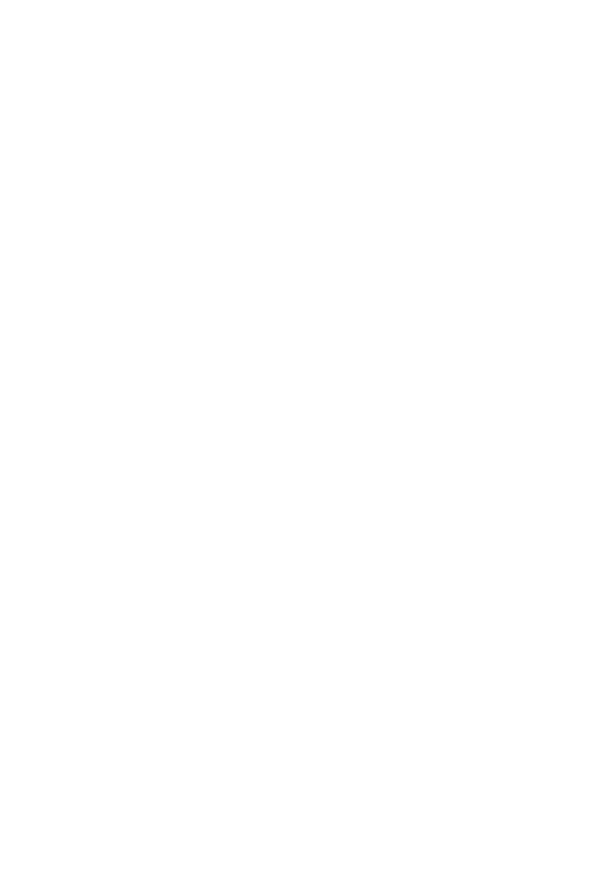
Государственный
заказчик – отличный
«тренажер», с которым
учишься работать по-
другому. Вместо принципа «сначала сделать, а потом когда-нибудь согласовать» выбираешь «сначала договориться
на бумаге и только
потом бросаться
в бой»
заказчик – отличный
«тренажер», с которым
учишься работать по-
другому. Вместо принципа «сначала сделать, а потом когда-нибудь согласовать» выбираешь «сначала договориться
на бумаге и только
потом бросаться
в бой»
- С какими проблемами клиенты обращались к вам в 2020 году чаще всего? Как изменилась ваша работа в связи с эпидемией?
- По сути мало изменилась. Мы много работали с банкротством, хозяйственными спорами, доводили корпоративные до логического завершения. Некоторые дела перешли в 21-й год. Наш постоянный блок вопросов как был на рынке, так и остался. Изменения больше коснулись нас, нашей осознанности и подхода к клиенту. Год принес невероятно много инсайтов. Мы познаем мир через себя, и чем ближе знакомимся с собой, тем проще нам понимать клиентов, их проблемы. Приходят решения на других уровнях, общая картина дела выглядит иначе – видишь больше, замечаешь быстрее. Я много дистанционно училась в 20-м году, и 21-й тоже начался с прохождения курсов. Одни уже закончились, вторые в разгаре, в апреле стартовали третьи. Вижу много общего между коучингом, юриспруденцией, консалтингом. Как мы работаем с клиентом, выясняем его потребности, заключаем договор, решаем проблему.
Наверное, в каком-то плане задачи все же изменились – стали сложнее. Но это логичное следствие роста нашего уровня. В первом классе складываешь два и два, в институте учишься высшей математике.
- Работали удаленно в 20-м году?
- Суды открылись уже 12 мая, на этом наша удаленка закончилась. А до того одни работали из дома, другие – из офиса. Каждый сам решал, как ему удобнее. Я буквально три дня смогла высидеть дома, не больше. Начали участвовать в судебных заседаниях онлайн – такая прелесть, сидишь в своем кабинете и разговариваешь с судом. Шутили: верх можно презентабельный, а низ – и домашние шорты пойдут)) Это стало приятным приобретением. Начали активно работать с Москвой удаленно. Вообще офис там открыли еще в 2019-м, но развитие шло медленно. А в прошлом году закрутилось: клиенты почти из воздуха возникали. Один пришел по рекомендации. Спрашиваю, кто рекомендовал. Оказывается, однокурсница их штатного юриста. А сейчас она у меня работает. Решали проблему клиента, переехавшего в Москву, – его сложности росли ногами из Челябинска. В итоге он со своим московским предприятием пришел к нам на абонентское обслуживание. Третий просто позвонил: «Сделку сопроводите?». Сопроводили.
- Какие ключевые изменения законодательства и знаковые судебные споры кажутся вам наиболее важными с точки зрения их влияния на практику арбитражных судов в 2020 году?
- Мы ждем одно глобальное изменение – обновление закона о банкротстве.
- К худшему или к лучшему?
- Нельзя сказать однозначно. Арбитражные управляющие очень переживают, многие изменения касаются их деятельности. Большой упор делается на процедуры реабилитации предприятий, восстановление платежеспособности. Но предлагаемый проект действительно вызывает много вопросов. Посмотрим, каким окажется итоговый вариант, пока сложно загадывать. Тем более, это уже далеко не первая попытка внести изменения подобного рода. Вот закон о банкротстве физических лиц 17 лет принимали))
- Так, может, у нас еще лет 15 есть впереди?)
- Надеюсь, что сможем решить вопрос быстрее)) Хотя первичные планы по поводу принятия изменений этим летом уже, по всей видимости, не будут реализованы. С другой стороны, «сырой» закон, который вызывает сплошные вопросы, может навредить больше, чем его отсутствие. Что еще нового? В начале 2020-го Верховный Суд выпустил обзор судебной практики по требованиям аффилированных лиц в банкротстве компаний, обобщив выводы, которые суды уже начали делать в рамках конкретных дел. С точки зрения применения закона это был очень значимый шаг. Принцип заключается в том, что аффилированные лица в подавляющем большинстве случаев не могут быть полноценными кредиторами. На них возлагается основное бремя доказывания и реальности отношений и некорпоративного характера требования. Сейчас активно используем разъяснения ВС РФ, и чтобы не допустить включения кредитора в реестр, и, наоборот, чтобы защитить. Например, доказываем статус инвестора московского клиента, опровергая доводы о корпоративном характере займа. В остальном… Изменения есть, но это обычное развитие, движение вперед.
- Нашли информацию: с начала 2021 года появились изменения в законодательстве о госзакупках, а именно в механизме проверки поставщиков.
- Есть такое. Не кардинальное изменение, но у заказчиков появилась еще одна обязанность в части проверки будущих поставщиков.
- Это хорошо?
- По большому счету, это проверка на коррупционную составляющую, она не должна прижать бизнес. Если раньше компания была уличена в том, что дает взятки ради участия в госзакупках, то сейчас заказчики это увидят и не станут заключать контракт.
- Это же особое умение – работать с государством.
- В подряде с любым заказчиком важно выстроить отношения, понимать, чего хочет заказчик, как этого достичь, как согласовывать изменения, которые неизбежно возникают в ходе выполнения работ, и т.д. Государство в этом смысле сложный заказчик, требующий особого внимания. И не потому, что «вредный», а потому, что существует жесткое законодательное регулирование. Госзаказчик находится в рамках, которые он сам преодолеть не может. Это нужно учитывать. Конечно, порой ситуации доходят до абсурда, и подрядчик, ввязавшийся в бой, не знает, как ему не то что заработать, а хотя бы выйти без потерь. Как бывает на практике? Строительная компания выходит на площадку и понимает, что запроектированный фундамент не подойдет, нужен другой. Надо что-то менять, и явно не за счет подрядчика – он же не знал, скажем, что там болото. А в договоре была обозначена твердая цена. Уменьшить ее можно, увеличить – нет, что бы ни происходило в жизни. Но подрядчик хочет «как лучше», приступает к работе, меняет проект, делает необходимый фундамент, выполняет другие работы. Заказчик его подбадривает: «Да, давай, потом обязательно все согласуем!». Но «потом» не происходит, потому что закон не позволяет. И подрядчик начинает обивать пороги, доказывать, требовать оплаты. Итог: спор года на три, подрядчик без денег, на грани банкротства. А еще риск внесения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), поскольку деньги у подрядчика закончились, работы завершить не может, заказчик заявляет отказ от договора в связи с нарушением подрядчиком сроков. В чем основная проблема таких договоров со стороны государства? Поверхностная проработка ТЗ из-за нехватки квалифицированных специалистов, отсутствие согласования с конечным получателем результата работ. Вот и рождаются ТЗ на основе проекта пятилетней давности, который специалист по закупкам нашел в интернете. При этом подрядчик, решившийся заключить такой контракт и надеясь «разрулить в процессе», должен понимать все риски, на которые идет в этом случае.
С другой стороны, государственный заказчик – отличный «тренажер», с которым учишься работать по-другому, вместо принципа «сначала сделать, а потом когда-нибудь согласовать» появляется осознание, что сначала договариваемся на бумаге и только потом бросаемся в бой. А еще с госзаказчиком можно отлично прокачать «мягкие» навыки, научиться слушать и слышать его на глубинном уровне, смотреть на ситуацию его глазами, и тогда снимается целый ряд вопросов.
- Вы помогаете разобраться с такими ситуациями?
- На регулярной основе)) И всегда ситуации выглядят запущенными. В таких случаях перед нами стоит несколько задач: что нужно сделать прямо сейчас, чтобы «купировать» ситуацию, не дать ей усугубиться. Какие документы, письма необходимо направить заказчику, чтобы усилить позицию подрядчика. Как защитить клиента от включения в РНП. Как максимально комфортно завершить отношения с заказчиком и получить деньги за выполненные работы, минимизировав при этом встречные штрафные санкции. И т. д.
- Вопрос из сферы банкротства. Быть должником – приговор?
- Смотря в чьи руки попадешь. Мы много работаем с должниками, видимо, миссия такая – помогать должникам, поддерживать. Важно, как клиент относится к своей ситуации. Конечно, психологически очень сложно. Но ничего хорошего не получится, если жить в проблеме, не спать ночами, переживать, что все ужасно, а кредиторы «злые». Депрессия и тупик – это частый сценарий, но можно иначе. Для должника важно в этот момент становиться более осознанным. Чем сложнее ситуация, тем важнее для человека понять ее смысл. Повод обратиться к себе и что-то поменять в своей жизни. И если взглянуть под таким углом, то тяжелая ситуация станет не тупиком, а мощной платформой для нового старта. Я всегда говорю своим клиентам, что то, что было, это не потерянные годы. Напротив, благодаря этому опыту вы сейчас смогли зайти на такую платформу, с которой наконец-то можно увидеть «звезды». Раньше просто не получилось бы. При этом в банкротстве моя задача как юриста объяснить клиенту риски, способы их минимизации, перспективы привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок; помочь выстроить максимально эффективную линию защиты; сократить количество ненужных и часто вредных действий.
- А вообще институт банкротства в России эффективен?
- Я начала об этом говорить еще в 2019 году. Это война, причем такая, в которой нет победителей. Залоговые кредиторы (чаще всего это банки) что-то еще получают, да и то не в полном объеме, ведь имущество должника продается по заниженной стоимости. Именно поэтому банки порой готовы отдать свою задолженность с дисконтом, чтобы побыстрее закрыть вопрос, пусть даже с убытком. А мелкие кредиторы вообще остаются ни с чем. Если требование кредитора три миллиона, а у банка – 300 и он залоговый, то маленькому кредитору явно ничего не достанется.
- И предприятие страдает, оно же не оздоравливается.
- Про оздоровление вообще речи не идет. Предприятие, по сути, растаскивают на куски. А собственник при этом хочет хоть что-то спасти. Он же знает, что в банкротстве камня на камне не останется. Вот и пытается любым способом сохранить активы. Нормальная человеческая реакция. Это не к тому, что нужно оправдывать поведение должника, а к тому, что чем больше закручиваем гайки, тем больше будет злоупотреблений со стороны должников. К сожалению, у нас в целом участники процедур банкротства предпочитают принцип «урвать хоть что-то» в ущерб остальным, отсюда низкая эффективность этого механизма. При этом, кто больше всех должен быть заинтересован в том, чтобы разрулить ситуацию? Ну, наверное, должник. Тогда ему нужно, в первую очередь, стремиться договариваться, предлагать варианты решений. А у нас должник зачастую встает в позу, обижается – кредитор не хочет войти в его положение. А сам должник вообще пытался услышать кредитора? Несколько раз сталкивались с ситуациями, когда в условиях кризиса должник обращается в банк-кредитор за получением дополнительного финансирования, потому что оно «точно спасет» и позволит рассчитаться со всеми долгами. Банк в ответ предлагает предоставить дополнительный залог, должник соглашается. Банк залог берет, а денег в итоге не дает.
- А должник думал, что дадут? Банк обманул?
- Думаю, это, скорее, про нежелание увидеть картину мира другой стороны. Должник, пытаясь выйти из кризисной ситуации, идет в банк, где у него уже все заложено, и просит: «Дай еще, я знаю, что это меня спасет». Банк отвечает: «Дай залоги, тогда поговорим». Должник слышит то, что хочет услышать, – банк уже пообещал и обязан предоставить деньги. А когда в итоге не предоставляет, оказывается «виноватым» в банкротстве. Но по факту в таких ситуациях я ни разу не видела оформленного соглашения о дополнительном финансировании или хотя бы переписку по этому поводу, из которых бы следовали реальные обещания банка. Дополнительные залоги действительно предоставляются, но в обеспечение ранее выданных кредитов, возврата которых банк уже устал ждать. Вместо того, чтобы услышать другую сторону, должник обижается: «Ах так, я вообще тогда ни копейки не заплачу!» И это приводит к войне, в которой, в первую очередь, проигрывает должник. Нужен кто-то третий, способный увидеть картину целиком, показать должнику все стороны медали, объяснить, что диалог надо строить иначе. Тогда процедура может стать эффективной. Мы стремимся к такой модели.
- Вы работаете со всеми, кто к вам приходит?
- Осознание последнего времени: к нам просто так не приходят. И очень редко раздаются «непрофильные» звонки типа: «Вы сопровождаете спор по ДТП?» Нет. И с гражданами не работаем, за редким исключением, если это знакомые или по рекомендации. Остальные приходят точечно.
- Значит, семейные – это не ваш профиль?
- Семейные бывают, хоть и нечасто. Это споры о разводах и разделе имущества. Т.е. опять вопросы отношений, потому, видимо, к нам и притягиваются. Эти дела похожи на те, к которым мы привычны, у сторон тоже много вопросов друг к другу.
- Внутренне вы на чьей стороне?
- Я в любом случае защищаю интересы клиента. Точно понимаю, что у обеих сторон свои правда и картина мира. И даже если клиент рассказывает мне что-то, это не значит, что я соглашусь с его позицией. Приму – да. Но спрошу: «Хорошо, если ты так будешь себя вести, как твой оппонент отреагирует? Как думаешь, почему оппонент так действует? Что для него важно?». Моя задача – расширить видение клиента. Что можно сделать, чтобы достичь результата без войны?
Сейчас ведем банкротство – один из партнеров ушел в другой бизнес, оставшийся болеет за свое детище, хочет его сохранить. Начались взаимные претензии. Вместо того, чтоб находить согласие через общий интерес, бывшие партнеры обвиняют друг друга, даже на встречу не могут договориться. Один говорит: «Я звоню второму, а он трубку не берет, уходит от диалога». Обращаюсь ко второму – абсолютно зеркальный ответ.
- И кто врет?
- Никто, каждый говорит про себя. Я понимаю обоих. Разговариваю с каждым о том, чего они хотят на самом деле, предлагаю взглянуть на ситуацию глазами бывшего партнера. Расходитесь? На здоровье. Но вы договоритесь, как мирно расстаться. Услышьте друг друга. Если убрать эмоции – чего вы оба хотите? Говорим на языке фактов и находим взаимные выгоды.
И вот вам другой пример – спор семейной пары. Сколько-то лет назад муж пообещал супруге «пожизненную пенсию», если она уйдет с работы. У него был бизнес, квартира куплена, участки, машины. К настоящему моменту они уже несколько лет не живут вместе. Жена в большой обиде, видимо, супруг заставил ее сидеть дома и не дал самореализоваться. Сейчас у него куча долгов, а имущество не разделено. Кредиторы уже претендуют на ту квартиру, что муж оставил жене. У нее множество претензий к бывшему: как он мог с ней так поступить, оставил без имущества, еще и долги навесил. Обсуждаем, что целесообразно делать в этих спорах. Объединять усилия супругов! Их вражда играет на руку только кредиторам. Клиентка упирается: какой он ужасный, как все плохо. Я говорю: «Ладно, а если бы не он, у вас была бы эта квартира?» Нет. Тогда можно его хотя бы за это поблагодарить? «Если бы не он, у меня, может, на Канарах квартира была бы». А если бы шалашик? Это стандартное свойство человеческой психики – мы не ценим то, что имеем, что другие делают для нас.
- По сути мало изменилась. Мы много работали с банкротством, хозяйственными спорами, доводили корпоративные до логического завершения. Некоторые дела перешли в 21-й год. Наш постоянный блок вопросов как был на рынке, так и остался. Изменения больше коснулись нас, нашей осознанности и подхода к клиенту. Год принес невероятно много инсайтов. Мы познаем мир через себя, и чем ближе знакомимся с собой, тем проще нам понимать клиентов, их проблемы. Приходят решения на других уровнях, общая картина дела выглядит иначе – видишь больше, замечаешь быстрее. Я много дистанционно училась в 20-м году, и 21-й тоже начался с прохождения курсов. Одни уже закончились, вторые в разгаре, в апреле стартовали третьи. Вижу много общего между коучингом, юриспруденцией, консалтингом. Как мы работаем с клиентом, выясняем его потребности, заключаем договор, решаем проблему.
Наверное, в каком-то плане задачи все же изменились – стали сложнее. Но это логичное следствие роста нашего уровня. В первом классе складываешь два и два, в институте учишься высшей математике.
- Работали удаленно в 20-м году?
- Суды открылись уже 12 мая, на этом наша удаленка закончилась. А до того одни работали из дома, другие – из офиса. Каждый сам решал, как ему удобнее. Я буквально три дня смогла высидеть дома, не больше. Начали участвовать в судебных заседаниях онлайн – такая прелесть, сидишь в своем кабинете и разговариваешь с судом. Шутили: верх можно презентабельный, а низ – и домашние шорты пойдут)) Это стало приятным приобретением. Начали активно работать с Москвой удаленно. Вообще офис там открыли еще в 2019-м, но развитие шло медленно. А в прошлом году закрутилось: клиенты почти из воздуха возникали. Один пришел по рекомендации. Спрашиваю, кто рекомендовал. Оказывается, однокурсница их штатного юриста. А сейчас она у меня работает. Решали проблему клиента, переехавшего в Москву, – его сложности росли ногами из Челябинска. В итоге он со своим московским предприятием пришел к нам на абонентское обслуживание. Третий просто позвонил: «Сделку сопроводите?». Сопроводили.
- Какие ключевые изменения законодательства и знаковые судебные споры кажутся вам наиболее важными с точки зрения их влияния на практику арбитражных судов в 2020 году?
- Мы ждем одно глобальное изменение – обновление закона о банкротстве.
- К худшему или к лучшему?
- Нельзя сказать однозначно. Арбитражные управляющие очень переживают, многие изменения касаются их деятельности. Большой упор делается на процедуры реабилитации предприятий, восстановление платежеспособности. Но предлагаемый проект действительно вызывает много вопросов. Посмотрим, каким окажется итоговый вариант, пока сложно загадывать. Тем более, это уже далеко не первая попытка внести изменения подобного рода. Вот закон о банкротстве физических лиц 17 лет принимали))
- Так, может, у нас еще лет 15 есть впереди?)
- Надеюсь, что сможем решить вопрос быстрее)) Хотя первичные планы по поводу принятия изменений этим летом уже, по всей видимости, не будут реализованы. С другой стороны, «сырой» закон, который вызывает сплошные вопросы, может навредить больше, чем его отсутствие. Что еще нового? В начале 2020-го Верховный Суд выпустил обзор судебной практики по требованиям аффилированных лиц в банкротстве компаний, обобщив выводы, которые суды уже начали делать в рамках конкретных дел. С точки зрения применения закона это был очень значимый шаг. Принцип заключается в том, что аффилированные лица в подавляющем большинстве случаев не могут быть полноценными кредиторами. На них возлагается основное бремя доказывания и реальности отношений и некорпоративного характера требования. Сейчас активно используем разъяснения ВС РФ, и чтобы не допустить включения кредитора в реестр, и, наоборот, чтобы защитить. Например, доказываем статус инвестора московского клиента, опровергая доводы о корпоративном характере займа. В остальном… Изменения есть, но это обычное развитие, движение вперед.
- Нашли информацию: с начала 2021 года появились изменения в законодательстве о госзакупках, а именно в механизме проверки поставщиков.
- Есть такое. Не кардинальное изменение, но у заказчиков появилась еще одна обязанность в части проверки будущих поставщиков.
- Это хорошо?
- По большому счету, это проверка на коррупционную составляющую, она не должна прижать бизнес. Если раньше компания была уличена в том, что дает взятки ради участия в госзакупках, то сейчас заказчики это увидят и не станут заключать контракт.
- Это же особое умение – работать с государством.
- В подряде с любым заказчиком важно выстроить отношения, понимать, чего хочет заказчик, как этого достичь, как согласовывать изменения, которые неизбежно возникают в ходе выполнения работ, и т.д. Государство в этом смысле сложный заказчик, требующий особого внимания. И не потому, что «вредный», а потому, что существует жесткое законодательное регулирование. Госзаказчик находится в рамках, которые он сам преодолеть не может. Это нужно учитывать. Конечно, порой ситуации доходят до абсурда, и подрядчик, ввязавшийся в бой, не знает, как ему не то что заработать, а хотя бы выйти без потерь. Как бывает на практике? Строительная компания выходит на площадку и понимает, что запроектированный фундамент не подойдет, нужен другой. Надо что-то менять, и явно не за счет подрядчика – он же не знал, скажем, что там болото. А в договоре была обозначена твердая цена. Уменьшить ее можно, увеличить – нет, что бы ни происходило в жизни. Но подрядчик хочет «как лучше», приступает к работе, меняет проект, делает необходимый фундамент, выполняет другие работы. Заказчик его подбадривает: «Да, давай, потом обязательно все согласуем!». Но «потом» не происходит, потому что закон не позволяет. И подрядчик начинает обивать пороги, доказывать, требовать оплаты. Итог: спор года на три, подрядчик без денег, на грани банкротства. А еще риск внесения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), поскольку деньги у подрядчика закончились, работы завершить не может, заказчик заявляет отказ от договора в связи с нарушением подрядчиком сроков. В чем основная проблема таких договоров со стороны государства? Поверхностная проработка ТЗ из-за нехватки квалифицированных специалистов, отсутствие согласования с конечным получателем результата работ. Вот и рождаются ТЗ на основе проекта пятилетней давности, который специалист по закупкам нашел в интернете. При этом подрядчик, решившийся заключить такой контракт и надеясь «разрулить в процессе», должен понимать все риски, на которые идет в этом случае.
С другой стороны, государственный заказчик – отличный «тренажер», с которым учишься работать по-другому, вместо принципа «сначала сделать, а потом когда-нибудь согласовать» появляется осознание, что сначала договариваемся на бумаге и только потом бросаемся в бой. А еще с госзаказчиком можно отлично прокачать «мягкие» навыки, научиться слушать и слышать его на глубинном уровне, смотреть на ситуацию его глазами, и тогда снимается целый ряд вопросов.
- Вы помогаете разобраться с такими ситуациями?
- На регулярной основе)) И всегда ситуации выглядят запущенными. В таких случаях перед нами стоит несколько задач: что нужно сделать прямо сейчас, чтобы «купировать» ситуацию, не дать ей усугубиться. Какие документы, письма необходимо направить заказчику, чтобы усилить позицию подрядчика. Как защитить клиента от включения в РНП. Как максимально комфортно завершить отношения с заказчиком и получить деньги за выполненные работы, минимизировав при этом встречные штрафные санкции. И т. д.
- Вопрос из сферы банкротства. Быть должником – приговор?
- Смотря в чьи руки попадешь. Мы много работаем с должниками, видимо, миссия такая – помогать должникам, поддерживать. Важно, как клиент относится к своей ситуации. Конечно, психологически очень сложно. Но ничего хорошего не получится, если жить в проблеме, не спать ночами, переживать, что все ужасно, а кредиторы «злые». Депрессия и тупик – это частый сценарий, но можно иначе. Для должника важно в этот момент становиться более осознанным. Чем сложнее ситуация, тем важнее для человека понять ее смысл. Повод обратиться к себе и что-то поменять в своей жизни. И если взглянуть под таким углом, то тяжелая ситуация станет не тупиком, а мощной платформой для нового старта. Я всегда говорю своим клиентам, что то, что было, это не потерянные годы. Напротив, благодаря этому опыту вы сейчас смогли зайти на такую платформу, с которой наконец-то можно увидеть «звезды». Раньше просто не получилось бы. При этом в банкротстве моя задача как юриста объяснить клиенту риски, способы их минимизации, перспективы привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок; помочь выстроить максимально эффективную линию защиты; сократить количество ненужных и часто вредных действий.
- А вообще институт банкротства в России эффективен?
- Я начала об этом говорить еще в 2019 году. Это война, причем такая, в которой нет победителей. Залоговые кредиторы (чаще всего это банки) что-то еще получают, да и то не в полном объеме, ведь имущество должника продается по заниженной стоимости. Именно поэтому банки порой готовы отдать свою задолженность с дисконтом, чтобы побыстрее закрыть вопрос, пусть даже с убытком. А мелкие кредиторы вообще остаются ни с чем. Если требование кредитора три миллиона, а у банка – 300 и он залоговый, то маленькому кредитору явно ничего не достанется.
- И предприятие страдает, оно же не оздоравливается.
- Про оздоровление вообще речи не идет. Предприятие, по сути, растаскивают на куски. А собственник при этом хочет хоть что-то спасти. Он же знает, что в банкротстве камня на камне не останется. Вот и пытается любым способом сохранить активы. Нормальная человеческая реакция. Это не к тому, что нужно оправдывать поведение должника, а к тому, что чем больше закручиваем гайки, тем больше будет злоупотреблений со стороны должников. К сожалению, у нас в целом участники процедур банкротства предпочитают принцип «урвать хоть что-то» в ущерб остальным, отсюда низкая эффективность этого механизма. При этом, кто больше всех должен быть заинтересован в том, чтобы разрулить ситуацию? Ну, наверное, должник. Тогда ему нужно, в первую очередь, стремиться договариваться, предлагать варианты решений. А у нас должник зачастую встает в позу, обижается – кредитор не хочет войти в его положение. А сам должник вообще пытался услышать кредитора? Несколько раз сталкивались с ситуациями, когда в условиях кризиса должник обращается в банк-кредитор за получением дополнительного финансирования, потому что оно «точно спасет» и позволит рассчитаться со всеми долгами. Банк в ответ предлагает предоставить дополнительный залог, должник соглашается. Банк залог берет, а денег в итоге не дает.
- А должник думал, что дадут? Банк обманул?
- Думаю, это, скорее, про нежелание увидеть картину мира другой стороны. Должник, пытаясь выйти из кризисной ситуации, идет в банк, где у него уже все заложено, и просит: «Дай еще, я знаю, что это меня спасет». Банк отвечает: «Дай залоги, тогда поговорим». Должник слышит то, что хочет услышать, – банк уже пообещал и обязан предоставить деньги. А когда в итоге не предоставляет, оказывается «виноватым» в банкротстве. Но по факту в таких ситуациях я ни разу не видела оформленного соглашения о дополнительном финансировании или хотя бы переписку по этому поводу, из которых бы следовали реальные обещания банка. Дополнительные залоги действительно предоставляются, но в обеспечение ранее выданных кредитов, возврата которых банк уже устал ждать. Вместо того, чтобы услышать другую сторону, должник обижается: «Ах так, я вообще тогда ни копейки не заплачу!» И это приводит к войне, в которой, в первую очередь, проигрывает должник. Нужен кто-то третий, способный увидеть картину целиком, показать должнику все стороны медали, объяснить, что диалог надо строить иначе. Тогда процедура может стать эффективной. Мы стремимся к такой модели.
- Вы работаете со всеми, кто к вам приходит?
- Осознание последнего времени: к нам просто так не приходят. И очень редко раздаются «непрофильные» звонки типа: «Вы сопровождаете спор по ДТП?» Нет. И с гражданами не работаем, за редким исключением, если это знакомые или по рекомендации. Остальные приходят точечно.
- Значит, семейные – это не ваш профиль?
- Семейные бывают, хоть и нечасто. Это споры о разводах и разделе имущества. Т.е. опять вопросы отношений, потому, видимо, к нам и притягиваются. Эти дела похожи на те, к которым мы привычны, у сторон тоже много вопросов друг к другу.
- Внутренне вы на чьей стороне?
- Я в любом случае защищаю интересы клиента. Точно понимаю, что у обеих сторон свои правда и картина мира. И даже если клиент рассказывает мне что-то, это не значит, что я соглашусь с его позицией. Приму – да. Но спрошу: «Хорошо, если ты так будешь себя вести, как твой оппонент отреагирует? Как думаешь, почему оппонент так действует? Что для него важно?». Моя задача – расширить видение клиента. Что можно сделать, чтобы достичь результата без войны?
Сейчас ведем банкротство – один из партнеров ушел в другой бизнес, оставшийся болеет за свое детище, хочет его сохранить. Начались взаимные претензии. Вместо того, чтоб находить согласие через общий интерес, бывшие партнеры обвиняют друг друга, даже на встречу не могут договориться. Один говорит: «Я звоню второму, а он трубку не берет, уходит от диалога». Обращаюсь ко второму – абсолютно зеркальный ответ.
- И кто врет?
- Никто, каждый говорит про себя. Я понимаю обоих. Разговариваю с каждым о том, чего они хотят на самом деле, предлагаю взглянуть на ситуацию глазами бывшего партнера. Расходитесь? На здоровье. Но вы договоритесь, как мирно расстаться. Услышьте друг друга. Если убрать эмоции – чего вы оба хотите? Говорим на языке фактов и находим взаимные выгоды.
И вот вам другой пример – спор семейной пары. Сколько-то лет назад муж пообещал супруге «пожизненную пенсию», если она уйдет с работы. У него был бизнес, квартира куплена, участки, машины. К настоящему моменту они уже несколько лет не живут вместе. Жена в большой обиде, видимо, супруг заставил ее сидеть дома и не дал самореализоваться. Сейчас у него куча долгов, а имущество не разделено. Кредиторы уже претендуют на ту квартиру, что муж оставил жене. У нее множество претензий к бывшему: как он мог с ней так поступить, оставил без имущества, еще и долги навесил. Обсуждаем, что целесообразно делать в этих спорах. Объединять усилия супругов! Их вражда играет на руку только кредиторам. Клиентка упирается: какой он ужасный, как все плохо. Я говорю: «Ладно, а если бы не он, у вас была бы эта квартира?» Нет. Тогда можно его хотя бы за это поблагодарить? «Если бы не он, у меня, может, на Канарах квартира была бы». А если бы шалашик? Это стандартное свойство человеческой психики – мы не ценим то, что имеем, что другие делают для нас.
Расходитесь?
На здоровье. Но вы
договоритесь, как
мирно расстаться.
Услышьте друг друга. Если убрать эмоции – чего вы оба хотите?
Говорим на языке
фактов и находим
взаимные выгоды
На здоровье. Но вы
договоритесь, как
мирно расстаться.
Услышьте друг друга. Если убрать эмоции – чего вы оба хотите?
Говорим на языке
фактов и находим
взаимные выгоды
- Если вы чувствуете, что требования клиента несправедливы все равно беретесь?
- Нет идеальных ситуаций, когда одна сторона абсолютно права. К нам чаще приходят те, кто «слабее», у кого меньше ресурсов. Но ситуацию всегда создают обе стороны. Например, один корпоративный конфликт длится уже шесть лет, сейчас в завершающей стадии. В свое время наш клиент был участником общества, из которого мажоритарный участник вывел актив. Нет основного актива – нет дохода. В процессе многочисленных споров мы не только вернули имущество в общество, но и исключили из него оппонента. Теперь общество и имущество под контролем нашего клиента. Но у оппонента есть право требовать свою долю, и актив, конечно же, не полностью принадлежал нашему клиенту. Однако клиент 8 лет не получал доходов от бизнеса и теперь хочет «восстановить справедливость», лишив противника всего. Споры продолжаются, и тут уже проигрывать начинает наш клиент. Я понимаю, почему. Спрашиваю клиента: «Если бы вы посмотрели на ситуацию со стороны, сколько бы причиталось вашему оппоненту?» Подумал. Ну да, вот такая сумма должна быть по справедливости. Вопрос осознанности клиента. Продолжит действовать из позиции наказания – будет терять. При этом я, безусловно, продолжу защищать его интересы.
- А вы с арбитражным управляющим играете на одном поле?
- По-разному, в том числе защищаем, например, от жалоб кредиторов и взыскания убытков. Сейчас в производстве такие дела.
- Часто случается, что арбитражный управляющий действует исключительно в интересах кредиторов?
- Конечно. Нередко арбитражного управляющего назначает мажоритарный кредитор, и тогда высока вероятность того, что такой кредитор будет диктовать условия. Например, все действия будут направлены на то, чтобы продать имущество побыстрее и по низкой стоимости. В таких случаях также считаю бесполезным кого-то обвинять, уходить в эмоциональную оценку. Есть факты, с ними и работаем, юридических инструментов для противодействия достаточно. Например, положение о продаже имущества должника направлено на удовлетворение интересов мажоритарного кредитора, а интересы всех остальных, в т.ч. собственника должника, не учитываются. Ок, идем оспаривать в суд, приостанавливаем торги до разрешения спора. Сейчас работаем с делом, где управляющий против должника, находим, что ему противопоставить. И клиента успокаиваем, потому что реакция: «Ах, он злодей, давай его побьем!» – не помогает. Зачем? Душу отвести? И что поменяется? Чем меньше агрессии, тем выше шансы получить нужный результат.
- В прошлом году вы давали интервью, в котором отметили, что у вас были фантастические случаи с результатами, которых вы не ожидали. Что это были за случаи?
- Да, одно из дел – взыскание убытков с арбитражного управляющего. Клиент пришел к нам после того, как суд первой инстанции взыскал с него 15 млн. руб. От нас клиент ждал снижения убытков хотя бы до 10 миллионов. У человека здоровый подход: сознаю, что тут может быть нарушение, понимаю, что это моя ответственность, было бы здорово получить такой результат. Мы давно знакомы по другим делам, он нам доверяет, и это позволяет обсуждать более глубинные вещи. Человек не просто сетует, какие все плохие, а понимает, как сам влиял на ситуацию. Он вышел от меня совсем в другом состоянии – с внутренним подъемом. На этой волне мы подготовили крутую жалобу и выиграли апелляцию «на ура». Суд огласил решение – я не поверила своим ушам, а потом еще секунд сорок доносила информацию до клиента по телефону: «Да, правда, ПОЛНОСТЬЮ удовлетворили нашу жалобу!»
- Каких клиентов ждете в этом году?
- Готовых меняться и развиваться. Это же идеальные клиенты! Недавно пришел клиент. Неожиданно для себя проиграли спор в двух инстанциях, несмотря на все заверения юристов, что выбранная тактика безупречна и положительный результат гарантирован. Более того, последовал новый иск на сумму в четыре раза больше. Клиент внутренне начал ощущать, что что-то не так, и озадачился поиском других специалистов. Наткнулся на мою статью, прислал запрос: вот такое дело, что думаете? Первый вопрос, который я задала на встрече: «Скажите, что пошло не так, почему отказались от договора?» С моей точки зрения, именно этот момент был ключевым. Прежние юристы пытались выиграть дело за счет формальностей, доказывая наличие дефектов в документах. Но это заведомо проигрышная позиция. Судья – нормальный человек, очевидно способный различить фальшь. Зачем придумывать хитрости, если позиция «как есть» самая выгодная и простая.
Желая переключить фокус клиента с того, что сейчас «плохо», я спросила, есть ли в этой ситуации позитивные моменты. Да! «Если бы мы заехали в помещение в конце 19-го года, еще бы ремонт делали, к открытию как раз бы получили локдаун и серьезные денежные потери». Но оппонент все равно «редиска» и его надо наказать!
Как сложно нам научиться видеть положительное в том, что с нами происходит. Мы – как пассажир, который опоздал на упавший самолет и все еще переживает о деньгах, потраченных на билет. Фокус внимания
сосредоточен на том, что потерял, а не на том, что приобрел. Стоит переключить – и ситуация разворачивается. Ведь мы получаем то, о чем думаем.
А степень сложности задач таких клиентов меня не пугает. Более того, чем тяжелее случай, тем выше можно подняться. Вселенная развивается через каждого из нас и для этого постоянно ставит перед нами задачи. Что будет, если не сдать экзамен? Пересдача. Уклоняясь от решения, мы получаем более сложный урок. В конце концов, человек может оказаться перед стеной «невыученных уроков», которую уже лбом не пробить. Единственный вариант – что-то менять, причем в себе. «Починить» мир не удастся))
У таких клиентов самый высокий потенциал. С ними интереснее всего работать. Но у каждого своя скорость, торопить никого не буду, только помогать и показывать возможности. Захочет – воспользуется, не захочет – попозже будет шанс.
- К своей жизни вне юриспруденции вы тоже применяете этот принцип?
- Я ко всем ситуациям подхожу так. Этот подход позволил мне легко прожить 2020 год, несмотря на все турбулентности. Во-первых, я понимаю, что все ситуации мне даны для чего-то, более того, я их сама себе создала. Значит, в моих руках находится решение. При этом я всегда четко отслеживаю свои мысли и эмоции по отношению к ситуации. Если дня два прошло, а произошедшее все еще причиняет мне внутренний дискомфорт, нужно найти мысль, от которой мне станет хорошо. Трансформирующая мысль – это как свет в темной комнате включить. Мгла рассеялась, внутри стало легко и радостно. Ситуация волшебным образом развернулась. Все, «урок пройден». Это дает возможность не сваливаться в тяжелые проблемы, а проходить любую ситуацию быстро и легко. Понимаю, что со мной происходит, решаю, чего хочу, что могу. Даже пришла к выводу, что порой ситуации мне даются в миниатюре, чтобы я попробовала «на тренажере», ощутила все внутренние процессы и потом смогла работать с клиентами, попавшими в схожие условия, но в более тяжелой форме. Такая вот вакцина.
– Вы свое дальнейшее развитие видите в чем? Будете коучингом заниматься?
- Я больше, чем юрист, для меня это очевидно. Решать вопросы в одной плоскости мне неинтересно. Но я в любом случае буду менять мир вокруг. Моя компания точно продолжит существовать в том же виде – здесь работают профессиональные юристы, которые решают соответствующие проблемы. Но чтобы повысить эффективность, требуется что-то еще. И оно будет. Я продолжу развиваться, привносить новое понимание в бизнес, делиться им с сотрудниками и клиентами. ///
- Нет идеальных ситуаций, когда одна сторона абсолютно права. К нам чаще приходят те, кто «слабее», у кого меньше ресурсов. Но ситуацию всегда создают обе стороны. Например, один корпоративный конфликт длится уже шесть лет, сейчас в завершающей стадии. В свое время наш клиент был участником общества, из которого мажоритарный участник вывел актив. Нет основного актива – нет дохода. В процессе многочисленных споров мы не только вернули имущество в общество, но и исключили из него оппонента. Теперь общество и имущество под контролем нашего клиента. Но у оппонента есть право требовать свою долю, и актив, конечно же, не полностью принадлежал нашему клиенту. Однако клиент 8 лет не получал доходов от бизнеса и теперь хочет «восстановить справедливость», лишив противника всего. Споры продолжаются, и тут уже проигрывать начинает наш клиент. Я понимаю, почему. Спрашиваю клиента: «Если бы вы посмотрели на ситуацию со стороны, сколько бы причиталось вашему оппоненту?» Подумал. Ну да, вот такая сумма должна быть по справедливости. Вопрос осознанности клиента. Продолжит действовать из позиции наказания – будет терять. При этом я, безусловно, продолжу защищать его интересы.
- А вы с арбитражным управляющим играете на одном поле?
- По-разному, в том числе защищаем, например, от жалоб кредиторов и взыскания убытков. Сейчас в производстве такие дела.
- Часто случается, что арбитражный управляющий действует исключительно в интересах кредиторов?
- Конечно. Нередко арбитражного управляющего назначает мажоритарный кредитор, и тогда высока вероятность того, что такой кредитор будет диктовать условия. Например, все действия будут направлены на то, чтобы продать имущество побыстрее и по низкой стоимости. В таких случаях также считаю бесполезным кого-то обвинять, уходить в эмоциональную оценку. Есть факты, с ними и работаем, юридических инструментов для противодействия достаточно. Например, положение о продаже имущества должника направлено на удовлетворение интересов мажоритарного кредитора, а интересы всех остальных, в т.ч. собственника должника, не учитываются. Ок, идем оспаривать в суд, приостанавливаем торги до разрешения спора. Сейчас работаем с делом, где управляющий против должника, находим, что ему противопоставить. И клиента успокаиваем, потому что реакция: «Ах, он злодей, давай его побьем!» – не помогает. Зачем? Душу отвести? И что поменяется? Чем меньше агрессии, тем выше шансы получить нужный результат.
- В прошлом году вы давали интервью, в котором отметили, что у вас были фантастические случаи с результатами, которых вы не ожидали. Что это были за случаи?
- Да, одно из дел – взыскание убытков с арбитражного управляющего. Клиент пришел к нам после того, как суд первой инстанции взыскал с него 15 млн. руб. От нас клиент ждал снижения убытков хотя бы до 10 миллионов. У человека здоровый подход: сознаю, что тут может быть нарушение, понимаю, что это моя ответственность, было бы здорово получить такой результат. Мы давно знакомы по другим делам, он нам доверяет, и это позволяет обсуждать более глубинные вещи. Человек не просто сетует, какие все плохие, а понимает, как сам влиял на ситуацию. Он вышел от меня совсем в другом состоянии – с внутренним подъемом. На этой волне мы подготовили крутую жалобу и выиграли апелляцию «на ура». Суд огласил решение – я не поверила своим ушам, а потом еще секунд сорок доносила информацию до клиента по телефону: «Да, правда, ПОЛНОСТЬЮ удовлетворили нашу жалобу!»
- Каких клиентов ждете в этом году?
- Готовых меняться и развиваться. Это же идеальные клиенты! Недавно пришел клиент. Неожиданно для себя проиграли спор в двух инстанциях, несмотря на все заверения юристов, что выбранная тактика безупречна и положительный результат гарантирован. Более того, последовал новый иск на сумму в четыре раза больше. Клиент внутренне начал ощущать, что что-то не так, и озадачился поиском других специалистов. Наткнулся на мою статью, прислал запрос: вот такое дело, что думаете? Первый вопрос, который я задала на встрече: «Скажите, что пошло не так, почему отказались от договора?» С моей точки зрения, именно этот момент был ключевым. Прежние юристы пытались выиграть дело за счет формальностей, доказывая наличие дефектов в документах. Но это заведомо проигрышная позиция. Судья – нормальный человек, очевидно способный различить фальшь. Зачем придумывать хитрости, если позиция «как есть» самая выгодная и простая.
Желая переключить фокус клиента с того, что сейчас «плохо», я спросила, есть ли в этой ситуации позитивные моменты. Да! «Если бы мы заехали в помещение в конце 19-го года, еще бы ремонт делали, к открытию как раз бы получили локдаун и серьезные денежные потери». Но оппонент все равно «редиска» и его надо наказать!
Как сложно нам научиться видеть положительное в том, что с нами происходит. Мы – как пассажир, который опоздал на упавший самолет и все еще переживает о деньгах, потраченных на билет. Фокус внимания
сосредоточен на том, что потерял, а не на том, что приобрел. Стоит переключить – и ситуация разворачивается. Ведь мы получаем то, о чем думаем.
А степень сложности задач таких клиентов меня не пугает. Более того, чем тяжелее случай, тем выше можно подняться. Вселенная развивается через каждого из нас и для этого постоянно ставит перед нами задачи. Что будет, если не сдать экзамен? Пересдача. Уклоняясь от решения, мы получаем более сложный урок. В конце концов, человек может оказаться перед стеной «невыученных уроков», которую уже лбом не пробить. Единственный вариант – что-то менять, причем в себе. «Починить» мир не удастся))
У таких клиентов самый высокий потенциал. С ними интереснее всего работать. Но у каждого своя скорость, торопить никого не буду, только помогать и показывать возможности. Захочет – воспользуется, не захочет – попозже будет шанс.
- К своей жизни вне юриспруденции вы тоже применяете этот принцип?
- Я ко всем ситуациям подхожу так. Этот подход позволил мне легко прожить 2020 год, несмотря на все турбулентности. Во-первых, я понимаю, что все ситуации мне даны для чего-то, более того, я их сама себе создала. Значит, в моих руках находится решение. При этом я всегда четко отслеживаю свои мысли и эмоции по отношению к ситуации. Если дня два прошло, а произошедшее все еще причиняет мне внутренний дискомфорт, нужно найти мысль, от которой мне станет хорошо. Трансформирующая мысль – это как свет в темной комнате включить. Мгла рассеялась, внутри стало легко и радостно. Ситуация волшебным образом развернулась. Все, «урок пройден». Это дает возможность не сваливаться в тяжелые проблемы, а проходить любую ситуацию быстро и легко. Понимаю, что со мной происходит, решаю, чего хочу, что могу. Даже пришла к выводу, что порой ситуации мне даются в миниатюре, чтобы я попробовала «на тренажере», ощутила все внутренние процессы и потом смогла работать с клиентами, попавшими в схожие условия, но в более тяжелой форме. Такая вот вакцина.
– Вы свое дальнейшее развитие видите в чем? Будете коучингом заниматься?
- Я больше, чем юрист, для меня это очевидно. Решать вопросы в одной плоскости мне неинтересно. Но я в любом случае буду менять мир вокруг. Моя компания точно продолжит существовать в том же виде – здесь работают профессиональные юристы, которые решают соответствующие проблемы. Но чтобы повысить эффективность, требуется что-то еще. И оно будет. Я продолжу развиваться, привносить новое понимание в бизнес, делиться им с сотрудниками и клиентами. ///
