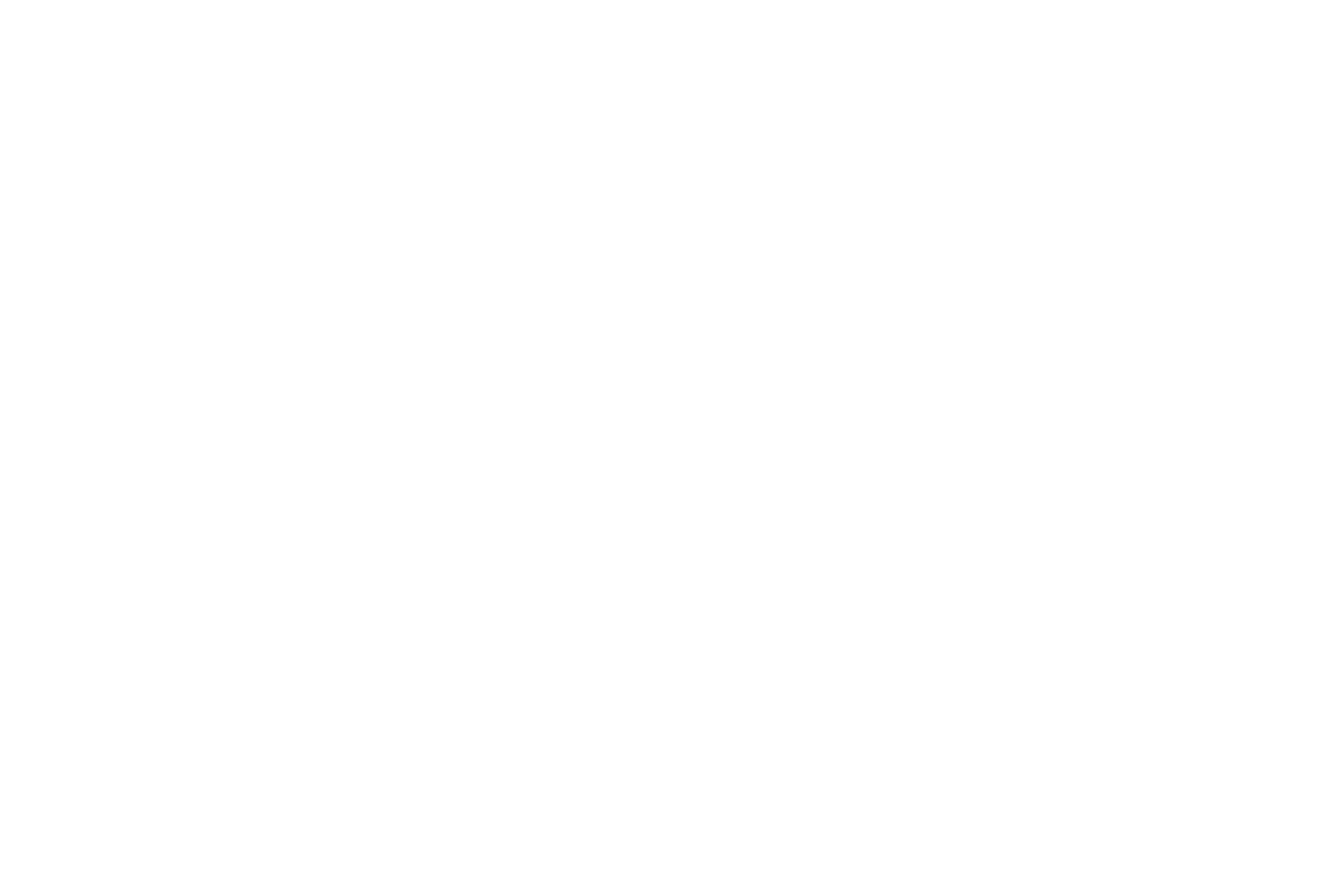
Кому на Руси?
На фоне беспрецедентно жестких ограничений со стороны западных стран крупный бизнес оказался зажат в тиски: все финансовые операции и поставки легко отслеживаются, а контрагентам грозят вторичные санкции. Параллельный импорт действительно мог бы решить проблему грозящего дефицита и восстановить поставки критически важной продукции, однако для этого власти необходимо не объявлять мобилизацию, а, наоборот, ослабить вожжи, считает известный предприниматель, финансист и инвестор Алексей Овакимян.
– Последний отчет о состоянии экономики региона, который есть в открытом доступе, – о прибылях и убытках крупнейших челябинских предприятий за пять месяцев. И там ситуация выглядит не то чтобы не тревожно, а даже вполне радужно. Как обстоят дела сейчас? Как жесткие западные санкции аукнулись бизнесу?
– Сейчас даже публичные компании и государственные ведомства освобождены от обязанности раскрытия информации по финансовым показателям. Так что со статистикой и прежде было не то чтобы хорошо, а стало совсем плохо. В США можно легко найти в свободном доступе отчеты об объемах продаж канцелярских скрепок за последнюю неделю, а у нас – только в целом по металлургии и только за полугодие. Если же говорить о состоянии региональной экономики, то некоторый рост показателей в первом квартале не скомпенсировал, а, скорее, создал задел для провала во втором. А июль и август оказались просто катастрофическими. Обыватель с серьезными проблемами пока не столкнулся: максимум, прочитал в новостях, что поставки кофе сокращаются, и при случае купил в магазине сразу три пачки впрок. А вот у крупного бизнеса серьезные проблемы. Металлургические предприятия, которые жили в рамках трехлетнего бюджета, сейчас составляют план действий максимум на ближайший месяц. Все работают с колес. Как при развале Советского Союза, когда обрывались все хозяйственные связи и все лихорадочно искали новые ниши. Сейчас происходит ровно то же самое. Российская экономика практически целиком и полностью была ориентирована на европейский рынок сбыта. На Восток мы особо не смотрели. А азиатские страны за это время нас переросли: и Китай, и Индия сегодня профицитны по производству того же металла – более того, производят на порядок больше в годовом выражении, чем Россия. Вот и получается, что на нашу долю остаются только пока плохо изученные арабские и африканские страны, которые всегда воспринимались с некоторым снисхождением. Да, в Африке есть рынок, есть спрос и даже есть деньги. Но мы же привыкли работать по европейским стандартам, заключать долгосрочные контракты с вежливыми людьми в галстуках.
– Ну, наши 90-е тоже не то чтобы далеко, и многие сегодняшние стейкхолдеры – прямиком оттуда, из эпохи первоначального накопления капитала, разве нет?
– Безусловно. Только в 90-е не было уголовной ответственности за торговлю с Россией. И если раньше один крупный европейский потребитель выбирал весь объем произведенной продукции целиком, то сейчас придется найти с десяток новых ему на замену. Проблема еще и в том, что крупный бизнес легко контролируется: магнитогорский металл достаточно просто отследить даже через цепь посреднических сделок. И вот тут включаются вторичные санкции.
– Сейчас даже публичные компании и государственные ведомства освобождены от обязанности раскрытия информации по финансовым показателям. Так что со статистикой и прежде было не то чтобы хорошо, а стало совсем плохо. В США можно легко найти в свободном доступе отчеты об объемах продаж канцелярских скрепок за последнюю неделю, а у нас – только в целом по металлургии и только за полугодие. Если же говорить о состоянии региональной экономики, то некоторый рост показателей в первом квартале не скомпенсировал, а, скорее, создал задел для провала во втором. А июль и август оказались просто катастрофическими. Обыватель с серьезными проблемами пока не столкнулся: максимум, прочитал в новостях, что поставки кофе сокращаются, и при случае купил в магазине сразу три пачки впрок. А вот у крупного бизнеса серьезные проблемы. Металлургические предприятия, которые жили в рамках трехлетнего бюджета, сейчас составляют план действий максимум на ближайший месяц. Все работают с колес. Как при развале Советского Союза, когда обрывались все хозяйственные связи и все лихорадочно искали новые ниши. Сейчас происходит ровно то же самое. Российская экономика практически целиком и полностью была ориентирована на европейский рынок сбыта. На Восток мы особо не смотрели. А азиатские страны за это время нас переросли: и Китай, и Индия сегодня профицитны по производству того же металла – более того, производят на порядок больше в годовом выражении, чем Россия. Вот и получается, что на нашу долю остаются только пока плохо изученные арабские и африканские страны, которые всегда воспринимались с некоторым снисхождением. Да, в Африке есть рынок, есть спрос и даже есть деньги. Но мы же привыкли работать по европейским стандартам, заключать долгосрочные контракты с вежливыми людьми в галстуках.
– Ну, наши 90-е тоже не то чтобы далеко, и многие сегодняшние стейкхолдеры – прямиком оттуда, из эпохи первоначального накопления капитала, разве нет?
– Безусловно. Только в 90-е не было уголовной ответственности за торговлю с Россией. И если раньше один крупный европейский потребитель выбирал весь объем произведенной продукции целиком, то сейчас придется найти с десяток новых ему на замену. Проблема еще и в том, что крупный бизнес легко контролируется: магнитогорский металл достаточно просто отследить даже через цепь посреднических сделок. И вот тут включаются вторичные санкции.
Когда во времена ковида Америка и Европа запустили гонку денежной эмиссии, экономисты всего мира прекрасно осознавали, что ничем хорошим это не закончится: избыточная, ничем не обеспеченная денежная масса нависнет над всем миром, как волна цунами. Собственно так и случилось. Все, что произошло, с точки зрения экономистов, – это именно последствия ковидной эмиссии. А вовсе не того, что президенты соседних стран о чем-то не договорились
– Насколько значителен объем критически важного импорта, который пока никак не заместить отечественной продукцией?
– На самом деле Россия – вполне самодостаточная страна. Во всяком случае там, где речь заходит о самом необходимом: еда, вода, энергоресурсы. Как выяснилось, даже легкая промышленность в стране осталась. Так что, даже если предположить риск блокады на триста лет, катастрофы не случится. Проблемы возникают там, где применяются высокие технологии. Без этого, на первый взгляд, человек не умрет. Но нельзя же игнорировать технический прогресс! Взять тот же транспорт и оборудование: только после жестких западных санкций выяснилось, что многие вещи, которые на бумаге давным-давно были, что называется, импортозамещены, на самом деле по-прежнему поставлялись из-за рубежа. И всех это устраивало до поры до времени. И вдруг неожиданно оказалось, что без импортных микрочипов или банальных подшипников встало большое производство. До смешного доходит: нет ни мебельной фурнитуры, ни саморезов. Потому что нет подходящей марки стали: меткомбинаты льют настоящую сталь, а для гвоздиков и фурнитуры сгодится и сплав с небольшим добавлением стали, иначе они стоят каких-то космических денег. Да и, если вдуматься, зачем в саморезе, который вкручивается раз и навсегда, вся мощь российской металлургии?
С другой стороны, если бы санкций не было, мы, может быть, так и не переучились бы никогда. Так всю жизнь и прикручивали бы эти шильдики на чужие изделия, выдавая импортное за отечественное, а черное – за белое. А этот стресс-тест, по крайней мере, заставил ясно осознать место, где мы находимся, что сделать в наших силах, кто стоит рядом и друг ли он или только прикидывался.
– Сейчас ряд экономистов предрекает, что неизбежно произойдет обратный откат к плановой экономике, где государство станет основным бенефициаром в ключевых отраслях, в частности, будет контролировать сырьевые компании. На ваш взгляд, это возможный путь?
– Это что-то из области фантастики. Сегодня восстановить в масштабах страны госплан, полагаю, гораздо сложнее, чем наладить производство микрочипов.
Если же говорить о росте доли государства в ключевых отраслях, то, как мне кажется, компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, в принципе не должны были становиться частными тридцать лет назад. Есть же два показательных примера того, как страна с социалистическим укладом перестраивалась на капиталистические рельсы: СССР и Китай. И в Китае был последовательный переход к частному сектору: сначала разрешили частникам заниматься малым бизнесом, потом средним, а уже потом возникли частные транснациональные гиганты. Сегодня в Китае есть и частная энергетика, и частные нефтяные компании, и частные банки, но они возникли только на последнем этапе разгосударствления. А Россия, как обычно, пошла своим путем: сначала все подчистую приватизировали в частную собственность, а спустя десять лет крепко задумались и начали обратно национализировать потихоньку. Наверное, китайский сценарий все-таки выглядит поинтересней, потому что госкорпорации с их раздутым аппаратом, как ни крути, нормально справляются с бизнес-задачами только на сверхмаржинальном рынке. А попробуй запусти госкорпорацию в продуктовый ритейл, где маржа колеблется от нуля до нескольких процентов в зависимости от эффективности менеджмента!.. Так что не думаю, что тотальная национализация – это на самом деле хороший вариант.
– Как снижение прибыли предприятий отразится на бюджетах муниципалитетов?
—В 90-х мы уже проживали опыт, когда громоздкая, неповоротливая система государственного управления объективно не справлялась с резкими переменами. Тогда регионам сказали: «Забирайте суверенитет и решайте как-то свои проблемы самостоятельно!» И каждая область, каждый город вынуждены были как-то барахтаться и выплывать. У кого-то получалось лучше, у кого-то – хуже. Но, так или иначе, власть на местах получила свободу действий: какие дома ремонтировать и какие дороги прокладывать, решалось на уровне мэра. И он, понимая, что, с одной стороны, в случае чего останется крайним, а с другой стороны, в своем городе именно он как градоначальник – самый большой человек, за которым последнее слово, как-то разруливал проблемы.
Жесткая вертикаль власти была хороша в нулевые, когда экономика перла, маржинальность зашкаливала и главным было сохранить целостность страны. А сейчас, как мне кажется, снова пришло время передать полномочия на места, хотя бы хозяйственные вещи делегировать: социалку, ремонт, снабжение, благоустройство, коммунальную сферу.
Понятно, что вожжи политической власти никто уже не отпустит, тем более в сегодняшней непростой обстановке. Но чисто экономические рычаги стоило бы передать на уровень ниже. После бюджетной реформы 2002 года часть местных и региональных налогов стала аккумулироваться на федеральном уровне, что призвано было привести к более справедливому распределению средств между богатыми и бедными регионами. Но прошло уже двадцать лет, а Ханты-Мансийск до сих пор так и не придумал, как справиться с доходами бюджета, а Курган так и не видел их никогда, там совсем о другом у мэра голова болит. Так, может, пора уже снова пересмотреть межбюджетные отношения? Наверное, в эпоху диджитализации можно найти алгоритм перераспределения налогов между бедными и богатыми регионами, минуя совещания в федеральных министерствах. Сегодня, чтобы подняться до федерального уровня и выбить бюджет, а затем проследить, чтобы деньги попали, куда требуется, а не улетели по ошибке в другой муниципалитет, чиновникам приходится пройти семь кругов ада. Давно пора убрать эти многоступенчатые согласования, которые растягиваются на полгода и поддерживают только отечественную пассажирскую авиацию и гостиничный бизнес в Москве. Чиновники постоянно мотаются по различным высоким кабинетам с папками, объясняя, зачем им необходимо выделить еще четыреста тысяч, и тратя при этом на командировочные расходы примерно ту же сумму. А мобилизация подразумевает еще большую концентрацию ресурсов в центре. А источники поступлений постепенно исчерпываются – вот уже и о дефиците бюджета заговорили, хотя за последние десятилетия мы привыкли жить в профиците. И в сложившихся обстоятельствах пытаться выжимать все до капли из регионов – бессмысленно.
– Что, по вашим прогнозам, будет с уровнем доходов, инфляцией, безработицей?
– Конечно, уровень доходов будет снижаться. Реальных. Привычные импортные товары начинают потихоньку заканчиваться. А те, что приходят им на смену, выше по стоимости и часто проигрывают по качеству. И номинальное повышение зарплат не компенсирует роста цен. Так что всем нам так или иначе придется заплатить качеством жизни за патриотизм. При этом на рынке труда образуется диспропорция, которая у частного бизнеса вызывает большие опасения: бюджетный сектор, на который приходится добрая половина рабочих мест, будет стараться поддерживать уровень зарплат. А вот частному бизнесу финансировать повышение заработных плат будет, скорее всего, не из чего. И, соответственно, подбирать кадры будет все сложнее и сложнее. При этом на крупные предприятия, скорее всего, навесят некие социальные обязательства, чтобы, несмотря на ситуацию в экономике, любыми путями избежать массовых сокращений на производстве. Скрытая безработица есть и сейчас, и эта проблема будет только нарастать.
Но при этом сказать, что впереди – кромешный мрак и ужас… Нет. Будем стараться лавировать, как делали это всегда, чтобы выйти без особых потерь. И в принципе путь между опасных рифов просматривается. Бизнес выстоит. А вот в кресле чиновника я бы не хотел сейчас оказаться. Финансирование сокращается, а дыр в бюджете становится все больше. Система администрирования строилась под плановую экономику, когда можно спокойно бюджетировать расходы на год вперед, отыгрывать тендеры, проводить закупки... Сейчас ситуация меняется ежедневно, а система принятия решений осталась прежней, громоздкой и неповоротливой, зарегулированной до крайней степени.
– На самом деле Россия – вполне самодостаточная страна. Во всяком случае там, где речь заходит о самом необходимом: еда, вода, энергоресурсы. Как выяснилось, даже легкая промышленность в стране осталась. Так что, даже если предположить риск блокады на триста лет, катастрофы не случится. Проблемы возникают там, где применяются высокие технологии. Без этого, на первый взгляд, человек не умрет. Но нельзя же игнорировать технический прогресс! Взять тот же транспорт и оборудование: только после жестких западных санкций выяснилось, что многие вещи, которые на бумаге давным-давно были, что называется, импортозамещены, на самом деле по-прежнему поставлялись из-за рубежа. И всех это устраивало до поры до времени. И вдруг неожиданно оказалось, что без импортных микрочипов или банальных подшипников встало большое производство. До смешного доходит: нет ни мебельной фурнитуры, ни саморезов. Потому что нет подходящей марки стали: меткомбинаты льют настоящую сталь, а для гвоздиков и фурнитуры сгодится и сплав с небольшим добавлением стали, иначе они стоят каких-то космических денег. Да и, если вдуматься, зачем в саморезе, который вкручивается раз и навсегда, вся мощь российской металлургии?
С другой стороны, если бы санкций не было, мы, может быть, так и не переучились бы никогда. Так всю жизнь и прикручивали бы эти шильдики на чужие изделия, выдавая импортное за отечественное, а черное – за белое. А этот стресс-тест, по крайней мере, заставил ясно осознать место, где мы находимся, что сделать в наших силах, кто стоит рядом и друг ли он или только прикидывался.
– Сейчас ряд экономистов предрекает, что неизбежно произойдет обратный откат к плановой экономике, где государство станет основным бенефициаром в ключевых отраслях, в частности, будет контролировать сырьевые компании. На ваш взгляд, это возможный путь?
– Это что-то из области фантастики. Сегодня восстановить в масштабах страны госплан, полагаю, гораздо сложнее, чем наладить производство микрочипов.
Если же говорить о росте доли государства в ключевых отраслях, то, как мне кажется, компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, в принципе не должны были становиться частными тридцать лет назад. Есть же два показательных примера того, как страна с социалистическим укладом перестраивалась на капиталистические рельсы: СССР и Китай. И в Китае был последовательный переход к частному сектору: сначала разрешили частникам заниматься малым бизнесом, потом средним, а уже потом возникли частные транснациональные гиганты. Сегодня в Китае есть и частная энергетика, и частные нефтяные компании, и частные банки, но они возникли только на последнем этапе разгосударствления. А Россия, как обычно, пошла своим путем: сначала все подчистую приватизировали в частную собственность, а спустя десять лет крепко задумались и начали обратно национализировать потихоньку. Наверное, китайский сценарий все-таки выглядит поинтересней, потому что госкорпорации с их раздутым аппаратом, как ни крути, нормально справляются с бизнес-задачами только на сверхмаржинальном рынке. А попробуй запусти госкорпорацию в продуктовый ритейл, где маржа колеблется от нуля до нескольких процентов в зависимости от эффективности менеджмента!.. Так что не думаю, что тотальная национализация – это на самом деле хороший вариант.
– Как снижение прибыли предприятий отразится на бюджетах муниципалитетов?
—В 90-х мы уже проживали опыт, когда громоздкая, неповоротливая система государственного управления объективно не справлялась с резкими переменами. Тогда регионам сказали: «Забирайте суверенитет и решайте как-то свои проблемы самостоятельно!» И каждая область, каждый город вынуждены были как-то барахтаться и выплывать. У кого-то получалось лучше, у кого-то – хуже. Но, так или иначе, власть на местах получила свободу действий: какие дома ремонтировать и какие дороги прокладывать, решалось на уровне мэра. И он, понимая, что, с одной стороны, в случае чего останется крайним, а с другой стороны, в своем городе именно он как градоначальник – самый большой человек, за которым последнее слово, как-то разруливал проблемы.
Жесткая вертикаль власти была хороша в нулевые, когда экономика перла, маржинальность зашкаливала и главным было сохранить целостность страны. А сейчас, как мне кажется, снова пришло время передать полномочия на места, хотя бы хозяйственные вещи делегировать: социалку, ремонт, снабжение, благоустройство, коммунальную сферу.
Понятно, что вожжи политической власти никто уже не отпустит, тем более в сегодняшней непростой обстановке. Но чисто экономические рычаги стоило бы передать на уровень ниже. После бюджетной реформы 2002 года часть местных и региональных налогов стала аккумулироваться на федеральном уровне, что призвано было привести к более справедливому распределению средств между богатыми и бедными регионами. Но прошло уже двадцать лет, а Ханты-Мансийск до сих пор так и не придумал, как справиться с доходами бюджета, а Курган так и не видел их никогда, там совсем о другом у мэра голова болит. Так, может, пора уже снова пересмотреть межбюджетные отношения? Наверное, в эпоху диджитализации можно найти алгоритм перераспределения налогов между бедными и богатыми регионами, минуя совещания в федеральных министерствах. Сегодня, чтобы подняться до федерального уровня и выбить бюджет, а затем проследить, чтобы деньги попали, куда требуется, а не улетели по ошибке в другой муниципалитет, чиновникам приходится пройти семь кругов ада. Давно пора убрать эти многоступенчатые согласования, которые растягиваются на полгода и поддерживают только отечественную пассажирскую авиацию и гостиничный бизнес в Москве. Чиновники постоянно мотаются по различным высоким кабинетам с папками, объясняя, зачем им необходимо выделить еще четыреста тысяч, и тратя при этом на командировочные расходы примерно ту же сумму. А мобилизация подразумевает еще большую концентрацию ресурсов в центре. А источники поступлений постепенно исчерпываются – вот уже и о дефиците бюджета заговорили, хотя за последние десятилетия мы привыкли жить в профиците. И в сложившихся обстоятельствах пытаться выжимать все до капли из регионов – бессмысленно.
– Что, по вашим прогнозам, будет с уровнем доходов, инфляцией, безработицей?
– Конечно, уровень доходов будет снижаться. Реальных. Привычные импортные товары начинают потихоньку заканчиваться. А те, что приходят им на смену, выше по стоимости и часто проигрывают по качеству. И номинальное повышение зарплат не компенсирует роста цен. Так что всем нам так или иначе придется заплатить качеством жизни за патриотизм. При этом на рынке труда образуется диспропорция, которая у частного бизнеса вызывает большие опасения: бюджетный сектор, на который приходится добрая половина рабочих мест, будет стараться поддерживать уровень зарплат. А вот частному бизнесу финансировать повышение заработных плат будет, скорее всего, не из чего. И, соответственно, подбирать кадры будет все сложнее и сложнее. При этом на крупные предприятия, скорее всего, навесят некие социальные обязательства, чтобы, несмотря на ситуацию в экономике, любыми путями избежать массовых сокращений на производстве. Скрытая безработица есть и сейчас, и эта проблема будет только нарастать.
Но при этом сказать, что впереди – кромешный мрак и ужас… Нет. Будем стараться лавировать, как делали это всегда, чтобы выйти без особых потерь. И в принципе путь между опасных рифов просматривается. Бизнес выстоит. А вот в кресле чиновника я бы не хотел сейчас оказаться. Финансирование сокращается, а дыр в бюджете становится все больше. Система администрирования строилась под плановую экономику, когда можно спокойно бюджетировать расходы на год вперед, отыгрывать тендеры, проводить закупки... Сейчас ситуация меняется ежедневно, а система принятия решений осталась прежней, громоздкой и неповоротливой, зарегулированной до крайней степени.
Властям сейчас не стоит осторожничать и мешать людям совершить то, что им удается лучше всего, – подвиги. Челноки придумают, как обойти санкции. И микрочипы в клетчатых сумках привезут, и все, что угодно. Вплоть до продукции двойного назначения. Просто отпустите парней с таможни на год в оплачиваемый отпуск
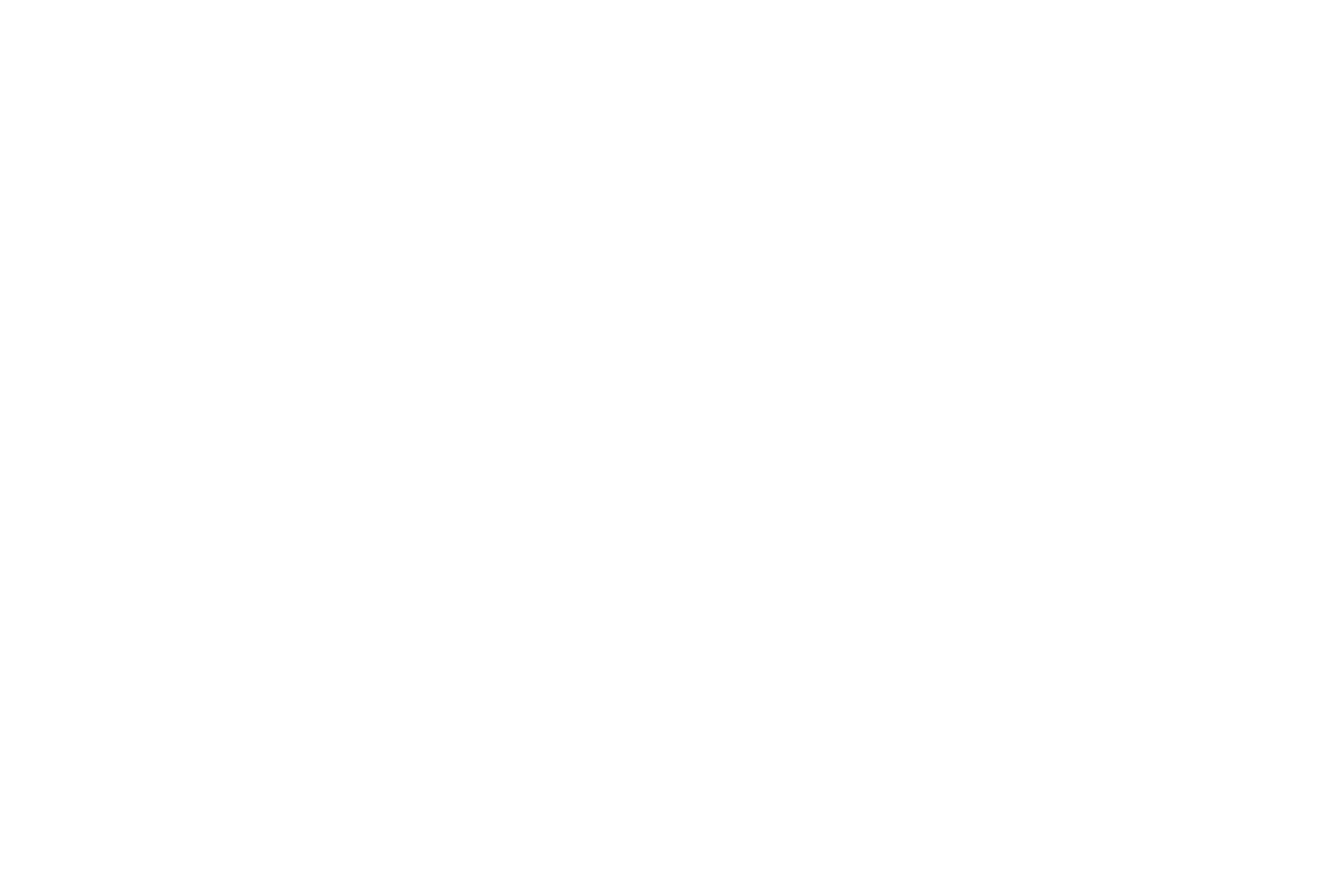
– Но пока рядовые потребители, по ощущениям, не замечают особых изменений?
– Да, так и есть. Потому что старых запасов товаров народного потребления хватило как раз примерно до сентября. Ну да, закрылись некоторые магазины. Но пока обыватели пребывают в иллюзии, что все далеко не так страшно, как представлялось изначально, они пока не столкнулись с дефицитом привычных товаров. А сейчас это уже начинает потихоньку проявляться. Проблему в той или иной мере могло бы решить то, что принято уклончиво называть «параллельным импортом». Кстати, уже был подобный опыт в истории страны, в начале 90-х, когда вся государственная система снабжения приказала долго жить, и поехали «челноки» с большими клетчатыми сумками. Как ни парадоксально, тогда от катастрофического дефицита страну спасла плохо отлаженная машина государственного контроля. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Даже границы с Казахстаном в то время не было, просто физически не существовало, о чем уж тут говорить. Поэтому спекулянты, которые мотались за импортными товарами и тащили все, от техники до одежды, самортизировали фактическую остановку производства товаров народного потребления в стране – да, шоковая терапия не бывает безболезненной, но как-то выплыли.
А сейчас работа институтов контроля отлажена, как часовой механизм. Поэтому тот же пресловутый параллельный импорт – это на самом деле пока в большей степени «хотелки», чем объективная реальность. За последние годы мы практически победили теневую экономику, а сейчас оказывается, что эти утраченные компетенции снова востребованы. Плюс за последние тридцать лет в мире появились технологии отслеживания и партий товаров, и финансовых операций. Все под лупой, от мала до велика. И первой закручивать гайки в отношении бизнеса, кстати, начала вовсе не Россия, мы лишь двигались в русле мировых трендов.
– Так что же, вернется свободный рынок 90-х?
– Похоже, что нет. Хотя это было бы неплохим вариантом. Я все время пытаюсь найти и оптимистичный сценарий. Пока, честно говоря, не нащупал. Очевидно, что достаточно много людей и в США, и в Европе, и в Азии, которые думают про бизнес, а не про политику, готовы продолжать работать с Россией. Но не представляют, как обходить ограничения. Санкции – как кирпичная стена. Очевидно, что вновь наладить торговые отношения между странами под силу только малому бизнесу, который потыкается, помыкается и потихоньку дорожку протопчет. У ММК и «Газпрома» это просто не получится – слишком заметный игрок, слишком большие партии товара. А челноки просочатся даже через закрытые границы. Да, производственную линию или большой сервер целиком протащить в обход санкций вряд ли получится, но можно же по частям, малыми партиями. Если, конечно, государству достанет мудрости, чтобы смотреть на это дело сквозь пальцы. По крайней мере, пока ситуация в мире не изменится. Если не закручивать гайки, рынок сам скомпенсирует дефицит.
– То есть, по вашей логике, будет всплеск предпринимательской инициативы?
– Должен быть. Не совсем по аналогии с 90-ми, но объективно – а как иначе-то? Нашему поколению довелось жить в эпоху перемен. И это оказалось довольно… интересно. Когда вводные на утро одни, а вечером того же дня – совершенно другие, потому что ситуация изменилась кардинально. И если контракт рассматривается дольше, чем один день, то гарантий никаких.
Но русский мужик – находчивый. Я много лет назад разговаривал с одним американским инвестором, который в свое время, еще на заре 90-х, вложил достаточно крупную сумму в разработку процессора, но технологию никак не получалось довести до совершенства – команда разработчиков как будто упиралась в стену. Затраты были понесены уже значительные, и обратного пути не было, в поисках технического решения инвестор объехал практически весь мир. И уже где-то на обратном пути из Азии в США просто на удачу по совету одного из знакомых заехал в Институт имени Лобачевского в Горьком. И вот, представьте: ужасная разруха кругом, неустроенность, хмурые бородатые ученые, плохо одетые, целыми днями пьют растворимый кофе и беспрерывно смолят. Они молча выслушали его проблему, ушли в другую комнату и спустя какое-то время вернулись с решением, которое было гораздо глубже, чем изначально поставленная задача. И при этом они не заключили контракт: им было просто интересно решить эту головоломку, чтобы утереть нос янки.
– Просто лесковский «Левша» какой-то!
– Да, русский человек – он вообще не про деньги. А про победу. И мне тот американский инвестор так и объяснил, почему он развивает бизнес в России: «Подвиг – это родная стихия для русских. Понятная. Вы можете в войне победить, в космос полететь. А что с этим всем дальше делать, просто не представляете. И тут включаются китайцы, которые любую идею поставят на конвейер. А я лучше всех все это продам». Так что властям сейчас не стоит осторожничать и мешать людям совершить то, что им удается лучше всего, – подвиги. Челноки придумают, как обойти санкции. И микрочипы в клетчатых сумках привезут, и все, что угодно. Вплоть до продукции двойного назначения. Просто отпустите парней с таможни на год в оплачиваемый отпуск.
– Но как расшить проблему с трансграничными переводами?
– Как мне кажется, здесь только один путь возможен – придать криптовалюте легальный статус для расчетов по операциям с параллельным импортом. Пока крипта запрещена российским законодательством как средство платежа. При этом она, конечно, в ходу, но, как говорится, на свой страх и риск. Хуже всего – невнятные, половинчатые шаги. Если мы заявляем, что перестали жить по указке ФРС США, то что нам мешает разрешить бизнесу оплачивать внешнеэкономические сделки в цифровой валюте?
– В недавней истории есть примеры, когда жесткие санкции и экономическая блокада затягивались на десятилетия. Каков прогноз? Россия пойдет по иранскому сценарию?
– Пока сложно что-то прогнозировать, но судя по тому, что происходит, быстро это точно не закончится. Полагаю, растянется на несколько лет, как война в Афганистане. И в мире есть центры принятия решений, которые были бы заинтересованы в затягивании этого конфликта. Когда во времена ковида Америка и Европа запустили гонку денежной эмиссии, экономисты всего мира прекрасно осознавали, что ничем хорошим это не закончится: избыточная, ничем не обеспеченная денежная масса нависнет над всем миром, как волна цунами. Собственно так и случилось. Все, что произошло, с точки зрения экономистов, – это именно последствия ковидной эмиссии. А вовсе не того, что президенты соседних стран о чем-то не договорились. Так или иначе должно было где-то рвануть: война, революция, смена режима… Понятно, что русского медведя пришлось хорошенько растолкать в берлоге, раздразнить, отхлестать по щекам… Но истинная причина военного конфликта в том, что в мире накопился настолько катастрофический дисбаланс, что кроме, как хирургическими методами, ситуацию уже было не разрешить.
– Да, так и есть. Потому что старых запасов товаров народного потребления хватило как раз примерно до сентября. Ну да, закрылись некоторые магазины. Но пока обыватели пребывают в иллюзии, что все далеко не так страшно, как представлялось изначально, они пока не столкнулись с дефицитом привычных товаров. А сейчас это уже начинает потихоньку проявляться. Проблему в той или иной мере могло бы решить то, что принято уклончиво называть «параллельным импортом». Кстати, уже был подобный опыт в истории страны, в начале 90-х, когда вся государственная система снабжения приказала долго жить, и поехали «челноки» с большими клетчатыми сумками. Как ни парадоксально, тогда от катастрофического дефицита страну спасла плохо отлаженная машина государственного контроля. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Даже границы с Казахстаном в то время не было, просто физически не существовало, о чем уж тут говорить. Поэтому спекулянты, которые мотались за импортными товарами и тащили все, от техники до одежды, самортизировали фактическую остановку производства товаров народного потребления в стране – да, шоковая терапия не бывает безболезненной, но как-то выплыли.
А сейчас работа институтов контроля отлажена, как часовой механизм. Поэтому тот же пресловутый параллельный импорт – это на самом деле пока в большей степени «хотелки», чем объективная реальность. За последние годы мы практически победили теневую экономику, а сейчас оказывается, что эти утраченные компетенции снова востребованы. Плюс за последние тридцать лет в мире появились технологии отслеживания и партий товаров, и финансовых операций. Все под лупой, от мала до велика. И первой закручивать гайки в отношении бизнеса, кстати, начала вовсе не Россия, мы лишь двигались в русле мировых трендов.
– Так что же, вернется свободный рынок 90-х?
– Похоже, что нет. Хотя это было бы неплохим вариантом. Я все время пытаюсь найти и оптимистичный сценарий. Пока, честно говоря, не нащупал. Очевидно, что достаточно много людей и в США, и в Европе, и в Азии, которые думают про бизнес, а не про политику, готовы продолжать работать с Россией. Но не представляют, как обходить ограничения. Санкции – как кирпичная стена. Очевидно, что вновь наладить торговые отношения между странами под силу только малому бизнесу, который потыкается, помыкается и потихоньку дорожку протопчет. У ММК и «Газпрома» это просто не получится – слишком заметный игрок, слишком большие партии товара. А челноки просочатся даже через закрытые границы. Да, производственную линию или большой сервер целиком протащить в обход санкций вряд ли получится, но можно же по частям, малыми партиями. Если, конечно, государству достанет мудрости, чтобы смотреть на это дело сквозь пальцы. По крайней мере, пока ситуация в мире не изменится. Если не закручивать гайки, рынок сам скомпенсирует дефицит.
– То есть, по вашей логике, будет всплеск предпринимательской инициативы?
– Должен быть. Не совсем по аналогии с 90-ми, но объективно – а как иначе-то? Нашему поколению довелось жить в эпоху перемен. И это оказалось довольно… интересно. Когда вводные на утро одни, а вечером того же дня – совершенно другие, потому что ситуация изменилась кардинально. И если контракт рассматривается дольше, чем один день, то гарантий никаких.
Но русский мужик – находчивый. Я много лет назад разговаривал с одним американским инвестором, который в свое время, еще на заре 90-х, вложил достаточно крупную сумму в разработку процессора, но технологию никак не получалось довести до совершенства – команда разработчиков как будто упиралась в стену. Затраты были понесены уже значительные, и обратного пути не было, в поисках технического решения инвестор объехал практически весь мир. И уже где-то на обратном пути из Азии в США просто на удачу по совету одного из знакомых заехал в Институт имени Лобачевского в Горьком. И вот, представьте: ужасная разруха кругом, неустроенность, хмурые бородатые ученые, плохо одетые, целыми днями пьют растворимый кофе и беспрерывно смолят. Они молча выслушали его проблему, ушли в другую комнату и спустя какое-то время вернулись с решением, которое было гораздо глубже, чем изначально поставленная задача. И при этом они не заключили контракт: им было просто интересно решить эту головоломку, чтобы утереть нос янки.
– Просто лесковский «Левша» какой-то!
– Да, русский человек – он вообще не про деньги. А про победу. И мне тот американский инвестор так и объяснил, почему он развивает бизнес в России: «Подвиг – это родная стихия для русских. Понятная. Вы можете в войне победить, в космос полететь. А что с этим всем дальше делать, просто не представляете. И тут включаются китайцы, которые любую идею поставят на конвейер. А я лучше всех все это продам». Так что властям сейчас не стоит осторожничать и мешать людям совершить то, что им удается лучше всего, – подвиги. Челноки придумают, как обойти санкции. И микрочипы в клетчатых сумках привезут, и все, что угодно. Вплоть до продукции двойного назначения. Просто отпустите парней с таможни на год в оплачиваемый отпуск.
– Но как расшить проблему с трансграничными переводами?
– Как мне кажется, здесь только один путь возможен – придать криптовалюте легальный статус для расчетов по операциям с параллельным импортом. Пока крипта запрещена российским законодательством как средство платежа. При этом она, конечно, в ходу, но, как говорится, на свой страх и риск. Хуже всего – невнятные, половинчатые шаги. Если мы заявляем, что перестали жить по указке ФРС США, то что нам мешает разрешить бизнесу оплачивать внешнеэкономические сделки в цифровой валюте?
– В недавней истории есть примеры, когда жесткие санкции и экономическая блокада затягивались на десятилетия. Каков прогноз? Россия пойдет по иранскому сценарию?
– Пока сложно что-то прогнозировать, но судя по тому, что происходит, быстро это точно не закончится. Полагаю, растянется на несколько лет, как война в Афганистане. И в мире есть центры принятия решений, которые были бы заинтересованы в затягивании этого конфликта. Когда во времена ковида Америка и Европа запустили гонку денежной эмиссии, экономисты всего мира прекрасно осознавали, что ничем хорошим это не закончится: избыточная, ничем не обеспеченная денежная масса нависнет над всем миром, как волна цунами. Собственно так и случилось. Все, что произошло, с точки зрения экономистов, – это именно последствия ковидной эмиссии. А вовсе не того, что президенты соседних стран о чем-то не договорились. Так или иначе должно было где-то рвануть: война, революция, смена режима… Понятно, что русского медведя пришлось хорошенько растолкать в берлоге, раздразнить, отхлестать по щекам… Но истинная причина военного конфликта в том, что в мире накопился настолько катастрофический дисбаланс, что кроме, как хирургическими методами, ситуацию уже было не разрешить.
И если Россия даст понять, что готова стать убежищем для самых незащищенных слоев населения на Западе: светлокожих, амбициозных и предприимчивых людей с традиционными ценностями, обеспечить свободу предпринима-тельства и справедливость законов, это вполне может стать тем особым путем, который так давно ищут
– Люди, которые запускали печатный станок, должны же были чем-то руководствоваться, задумываться о последствиях и о том, как выходить из кризиса, разве нет?
– Я долго ломал голову над этим. А на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе его основатель Клаус Шваб немного приоткрыл, как мне показалось, завесу тайны, заявив, что криптовалюта доказала технологическую состоятельность и миру пора переходить на цифровые валюты, эмиссия которых будет привязана к электричеству. И появился некий прогноз на теперь уже не золотой, а энергостандарт. То есть в старой Европе есть четкое понимание, что прежние мировые валюты уже отжили свой век. Вся модель мировой экономики будет претерпевать кардинальные изменения. И пока на старте у России неплохие позиции, чтобы в разбалансированном новом мировом укладе занять достойное место: есть природные ресурсы, огромная территория и нет перегибов с избыточной толерантностью и культурой отмены, в которых западные социалисты, как мне кажется, заигрались. И если Россия даст понять, что готова стать убежищем для самых незащищенных слоев населения на Западе: светлокожих, амбициозных и предприимчивых людей с традиционными ценностями, обеспечить свободу предпринимательства и справедливость законов, это вполне может стать тем особым путем, который так давно ищут.
– Я долго ломал голову над этим. А на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе его основатель Клаус Шваб немного приоткрыл, как мне показалось, завесу тайны, заявив, что криптовалюта доказала технологическую состоятельность и миру пора переходить на цифровые валюты, эмиссия которых будет привязана к электричеству. И появился некий прогноз на теперь уже не золотой, а энергостандарт. То есть в старой Европе есть четкое понимание, что прежние мировые валюты уже отжили свой век. Вся модель мировой экономики будет претерпевать кардинальные изменения. И пока на старте у России неплохие позиции, чтобы в разбалансированном новом мировом укладе занять достойное место: есть природные ресурсы, огромная территория и нет перегибов с избыточной толерантностью и культурой отмены, в которых западные социалисты, как мне кажется, заигрались. И если Россия даст понять, что готова стать убежищем для самых незащищенных слоев населения на Западе: светлокожих, амбициозных и предприимчивых людей с традиционными ценностями, обеспечить свободу предпринимательства и справедливость законов, это вполне может стать тем особым путем, который так давно ищут.
