UNO. BUILDING
КРЫЛЬЦА, ФОСТЕР
и последний шанс
и последний шанс
На круглом столе, организованном журналом UNO, крупнейшие застройщики, девелоперы и руководители компаний, имеющих отношение к городскому благоустройству, встретились с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым, чтобы «сверить часы». Им нашлось о чем поговорить.
Участники круглого стола:
Елена Тельпиз, главный редактор журнала UNO
Павел Крутолапов, главный архитектор, начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска
Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна»
Денис Ни, девелопер, директор компании Yellowstone development
Олег Лакницкий, генеральный директор строительной компании «ТРЕСТ «Магнитострой»
Дмитрий Воронков, заместитель генерального директора НПО «Сады России»
Василий Курбацких, девелопер, бизнесмен,
владелец бизнес-центра «Аркаим Плаза»
Анна Шипина, директор агентства недвижимости «РиэлтСтройком»
Петр Стебельский, дизайнер, архитектор
Елена Тельпиз, главный редактор журнала UNO
Павел Крутолапов, главный архитектор, начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска
Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна»
Денис Ни, девелопер, директор компании Yellowstone development
Олег Лакницкий, генеральный директор строительной компании «ТРЕСТ «Магнитострой»
Дмитрий Воронков, заместитель генерального директора НПО «Сады России»
Василий Курбацких, девелопер, бизнесмен,
владелец бизнес-центра «Аркаим Плаза»
Анна Шипина, директор агентства недвижимости «РиэлтСтройком»
Петр Стебельский, дизайнер, архитектор
Елена Тельпиз: Павел, в одном из интервью вы сказали, что в Челябинске несколько ключевых проблем. В первую очередь – большое количество диалектов, на которых говорят все участники процесса: архитекторы на одном, застройщики на другом, чиновники и бизнесмены – на третьем и четвертом. А общего языка нет.
Павел Крутолапов: Так и есть.
Елена Тельпиз: Как вы представляете этот общий язык? И как вышло, что понимание оказалось утеряно? Если оно вообще было.
Павел Крутолапов: Не знаю, как вышло. Могу привести пример. Когда я пришел на должность, мне положили на стол стопку вывесок на согласование – для известной сети продовольственных магазинов. Плохие проекты. Сеть приносила их годами, получала замечания, переделывала, нервничала, несла снова. Лучше не становилось. Договорились о встрече с руководителями. Спасибо им, что откликнулись. «Ребята, вам неудобно, и нам неудобно. В Челябинске не так много типов застройки. Давайте вместе создадим гайдбук, согласуем его и процесс ускорим». Мы так и сделали, и действительно – магазины этой сети сейчас «переодеваются», результат достигнут. Потом встретились еще раз: «Не хотите вложиться в благоустройство?» – «Хотим». Договорились сделать несколько пилотных проектов, которые они потом смогут тиражировать. Сегодня находимся на этой стадии. Вот один из примеров, как можно сонастраиваться и договариваться. Здесь сидит Екатерина Цветкова. С ЖК «Лесопарковый» все развивалось так же. Хотите сделать парковку? Сделайте, только пусть это будет суперпарковка. Или в соседнюю улицу вложитесь, создайте себе ценность. И в первом, и во втором случае мне говорили, что и раньше были готовы сотрудничать, только предложений не поступало. А теперь мы предлагаем, и все за.
Екатерина Цветкова: Оказывается, чтобы наладить диалог, нужно начать говорить.
Елена Тельпиз: От кого должна идти инициатива?
Павел Крутолапов: Сегодня администрация во главе с Натальей Котовой рассматривает город целиком, комплексно. Когда к нам приходят с проектами, которые «не ложатся» к месту, нужно не просто их откидывать, а вступать в диалог: «Слушайте, так не пойдет, потому что через два квартала от вас планируется это и это».
Павел Крутолапов: Так и есть.
Елена Тельпиз: Как вы представляете этот общий язык? И как вышло, что понимание оказалось утеряно? Если оно вообще было.
Павел Крутолапов: Не знаю, как вышло. Могу привести пример. Когда я пришел на должность, мне положили на стол стопку вывесок на согласование – для известной сети продовольственных магазинов. Плохие проекты. Сеть приносила их годами, получала замечания, переделывала, нервничала, несла снова. Лучше не становилось. Договорились о встрече с руководителями. Спасибо им, что откликнулись. «Ребята, вам неудобно, и нам неудобно. В Челябинске не так много типов застройки. Давайте вместе создадим гайдбук, согласуем его и процесс ускорим». Мы так и сделали, и действительно – магазины этой сети сейчас «переодеваются», результат достигнут. Потом встретились еще раз: «Не хотите вложиться в благоустройство?» – «Хотим». Договорились сделать несколько пилотных проектов, которые они потом смогут тиражировать. Сегодня находимся на этой стадии. Вот один из примеров, как можно сонастраиваться и договариваться. Здесь сидит Екатерина Цветкова. С ЖК «Лесопарковый» все развивалось так же. Хотите сделать парковку? Сделайте, только пусть это будет суперпарковка. Или в соседнюю улицу вложитесь, создайте себе ценность. И в первом, и во втором случае мне говорили, что и раньше были готовы сотрудничать, только предложений не поступало. А теперь мы предлагаем, и все за.
Екатерина Цветкова: Оказывается, чтобы наладить диалог, нужно начать говорить.
Елена Тельпиз: От кого должна идти инициатива?
Павел Крутолапов: Сегодня администрация во главе с Натальей Котовой рассматривает город целиком, комплексно. Когда к нам приходят с проектами, которые «не ложатся» к месту, нужно не просто их откидывать, а вступать в диалог: «Слушайте, так не пойдет, потому что через два квартала от вас планируется это и это».
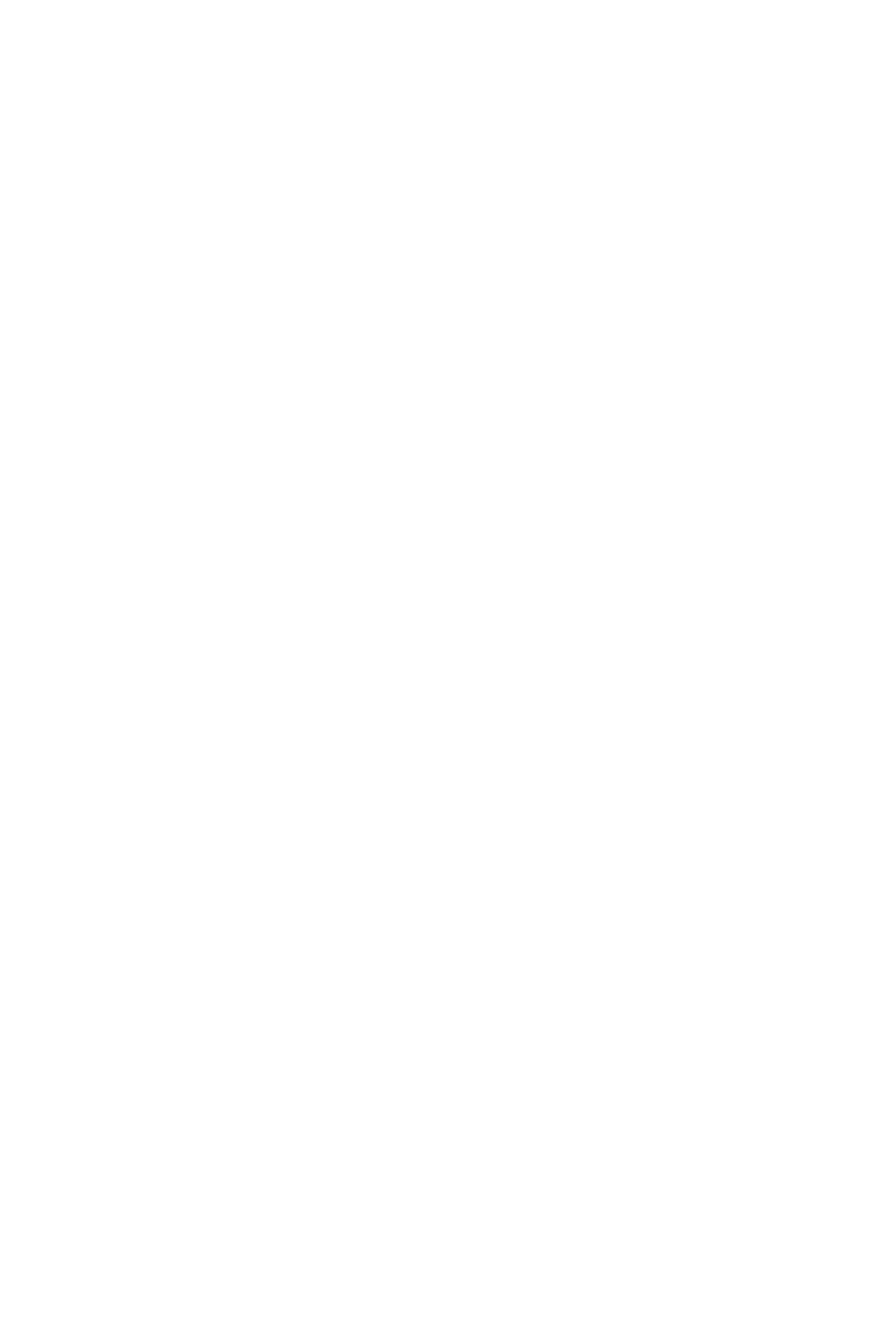
Мой личный кейс: когда я пришла на Лесопарковую и дома номер 7 и 8 были уже на этапе каркаса, я увидела, что он не вровень с землей. Спрашиваю: «Что это такое?» Мне говорят: «Это крыльца!» Есть такое слово – крыльца, хорошее, строительное. Значит, ступенек будет немножко.
Я: «Стоп-стоп! Мы так не договаривались». У меня как у матери четверых детей четыре коляски.
Я прекрасно знаю, что такое крыльца. Дальше была жутчайшая битва с проектировщиками, архитекторами, как все вывести в ноль. Масса нюансов продиктована принципами урбанистики. Если бы их не было, плюнули бы и сказали: «Да нормально! Крыльца так крыльца».
Я: «Стоп-стоп! Мы так не договаривались». У меня как у матери четверых детей четыре коляски.
Я прекрасно знаю, что такое крыльца. Дальше была жутчайшая битва с проектировщиками, архитекторами, как все вывести в ноль. Масса нюансов продиктована принципами урбанистики. Если бы их не было, плюнули бы и сказали: «Да нормально! Крыльца так крыльца».
Тогда понятны причины отказа. И наоборот, если мы понимаем, что нужно что-то изменить, первым делом стоит разговаривать со стейкхолдерами на территории. Любая инициатива должна быть не наказуема, а обсуждаема.
Елена Тельпиз: Единодушие, которое вербально или невербально выражают сейчас все за этим столом, говорит о том, что проблемы нет. Но когда я задавала вопрос, все присутствующие кивали: «Да, мы говорим на разных языках». Так все-таки проблема существует?
Павел Крутолапов: Конечно да, и будет существовать. Договариваться – это процесс. Взаимопонимания не достигнуть по щелчку пальцев.
Дмитрий Воронков: Со своей колокольни скажу: когда есть диалог между Павлом, главным архитектором, и людьми, которые желают что-то менять, это одна история. Павел вникает, идет проработка проекта, и получается красиво. А есть другая: утвердили проект, хороший, он выходит на тендер, и на тендере цена падает в два – два с половиной раза. В итоге имеем дерьмо, потому что исполнитель заинтересован делать дешево, а не качественно. Насколько я знаю, есть инициатива, поддерживаемая губернатором, – привести законы города Челябинска к единому документообороту в части подачи документации и исполнения проекта. Чтобы не было такого – заложили одно, а выполнили совершенно другое.
Павел Крутолапов: Я готов поспорить. Думаю, тебе стоит съездить на набережную за «Мегаполисом», которую мы заканчиваем. Это реально пространство номер один сегодня, и это тот же самый ТЗ 44. Дело не в отношении, а в проработке технического задания перед тендером и опросных листах. Невозможно при правильной проработке получить плохой результат.
Дмитрий Воронков: Ты к проекту сам руки приложил?
Павел Крутолапов: Конечно.
Дмитрий Воронков: Вот именно. Ты сам приложил и выверил все сам. А я говорю о вещах, которые размещают те же районы. Ты разве сможешь вникнуть в каждый маленький сквер? В правильность составления документации?
Павел Крутолапов: Мы создаем каталог решений сегодня, которым смогут пользоваться все!
Дмитрий Воронков: Поделись)) То, что мы видим на местах, не поддается никакой критике.
Екатерина Цветкова: Тема очень животрепещущая. Тут Павел отмечал, что девелоперы «Весна», «Голос Девелопмент», White Group…
Елена Тельпиз: Единодушие, которое вербально или невербально выражают сейчас все за этим столом, говорит о том, что проблемы нет. Но когда я задавала вопрос, все присутствующие кивали: «Да, мы говорим на разных языках». Так все-таки проблема существует?
Павел Крутолапов: Конечно да, и будет существовать. Договариваться – это процесс. Взаимопонимания не достигнуть по щелчку пальцев.
Дмитрий Воронков: Со своей колокольни скажу: когда есть диалог между Павлом, главным архитектором, и людьми, которые желают что-то менять, это одна история. Павел вникает, идет проработка проекта, и получается красиво. А есть другая: утвердили проект, хороший, он выходит на тендер, и на тендере цена падает в два – два с половиной раза. В итоге имеем дерьмо, потому что исполнитель заинтересован делать дешево, а не качественно. Насколько я знаю, есть инициатива, поддерживаемая губернатором, – привести законы города Челябинска к единому документообороту в части подачи документации и исполнения проекта. Чтобы не было такого – заложили одно, а выполнили совершенно другое.
Павел Крутолапов: Я готов поспорить. Думаю, тебе стоит съездить на набережную за «Мегаполисом», которую мы заканчиваем. Это реально пространство номер один сегодня, и это тот же самый ТЗ 44. Дело не в отношении, а в проработке технического задания перед тендером и опросных листах. Невозможно при правильной проработке получить плохой результат.
Дмитрий Воронков: Ты к проекту сам руки приложил?
Павел Крутолапов: Конечно.
Дмитрий Воронков: Вот именно. Ты сам приложил и выверил все сам. А я говорю о вещах, которые размещают те же районы. Ты разве сможешь вникнуть в каждый маленький сквер? В правильность составления документации?
Павел Крутолапов: Мы создаем каталог решений сегодня, которым смогут пользоваться все!
Дмитрий Воронков: Поделись)) То, что мы видим на местах, не поддается никакой критике.
Екатерина Цветкова: Тема очень животрепещущая. Тут Павел отмечал, что девелоперы «Весна», «Голос Девелопмент», White Group…
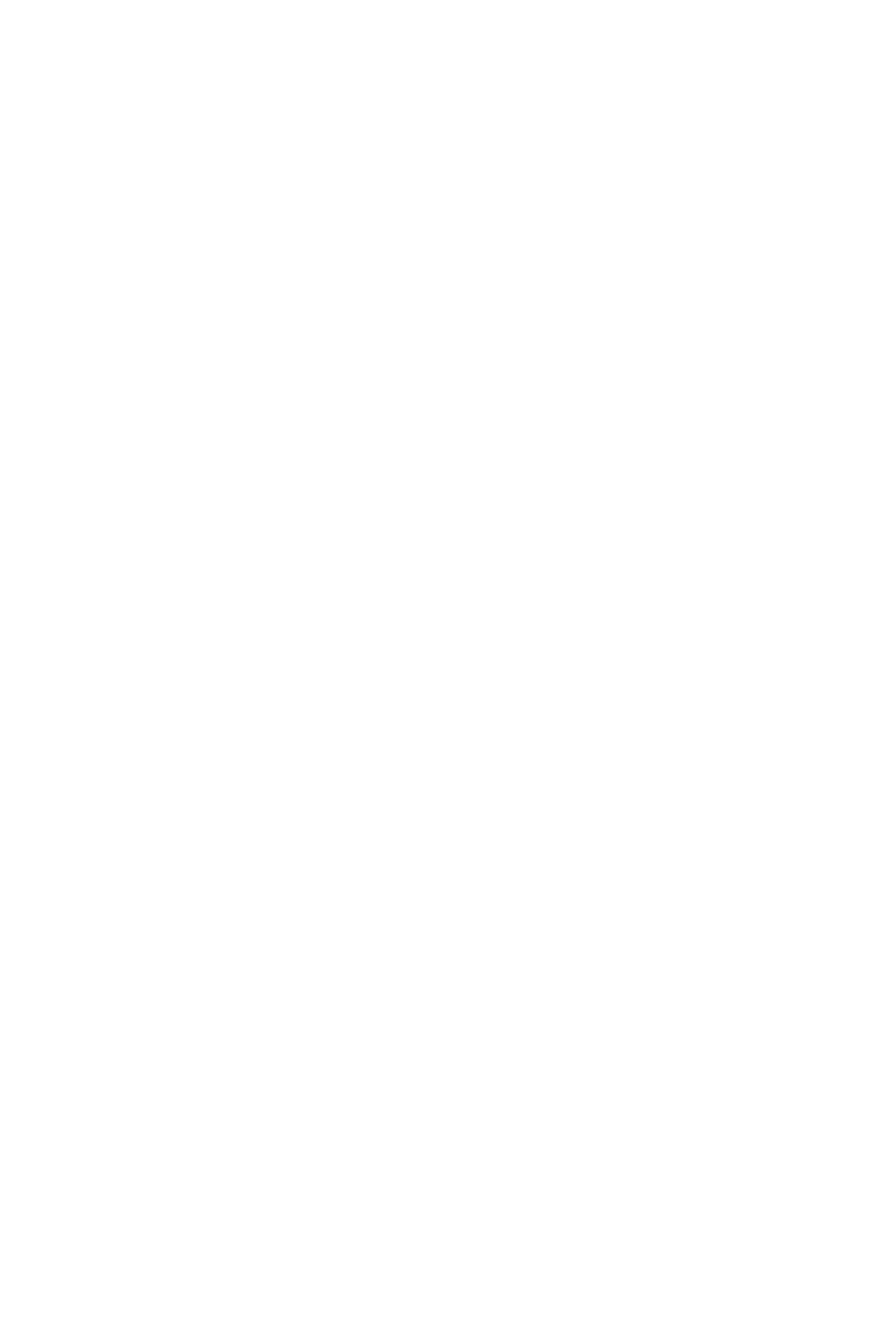
Плохие проекты. сеть приносила их годами, получала замечания, переделывала, нервничала, несла снова.
Лучше не становилось.
Лучше не становилось.
Павел Крутолапов: …и «ТРЕСТ «Магнитострой». Олег Владимирович, вы не в тренде, пора переименоваться))
Олег Лакницкий: Я уже старый, больной кавалерист)) А этот бренд целый город построил. И потом – перед пенсионерами-стариками, которые мне его отдали, причем бесплатно, будет стыдно.
Екатерина Цветкова: Так вот, хочу сказать о следующем: девелопер «Весна» может стать тем, кто перевод с одного языка на другой устроит. Как выглядят наши кейсы: есть инвестор, у которого деньги и много земельного банка, он говорит: «Мне нужно столько-то квадратных метров, и чтобы столько-то маржи с каждого. Больше ничего не интересует». И есть обычный коммерческий архитектор, который берется за площадку. Заказчик может диктовать ему свои условия. Что делаю я как девелопер: прихожу к архитектору, и мой первый вопрос: «Композиционно этот объем сюда встанет? Не испортит городскую ткань? Впишется в существующую застройку?» Если слышу ответ: «да», возвращаюсь к инвестору и сообщаю: «Вроде летит». Если ответ архитектора будет: «Ни в коем случае», я потрачу уйму времени и сил и придумаю разные ухищрения, как доказать инвестору необходимость не меньшего съема, конечно, но достижения его другими средствами: повышением ценности, извлечением дохода из каких-то смежных историй. Потому что архитектор – главный на проекте. Он должен сказать, как будет хорошо. То, что мы делаем, простоит сто лет, на нем вырастут несколько поколений. Когда я начинаю думать об этом, мурашки по коже.
Елена Тельпиз: Олег Владимирович, а у вас общий язык найден?
Олег Лакницкий: Я уже старый, больной кавалерист)) А этот бренд целый город построил. И потом – перед пенсионерами-стариками, которые мне его отдали, причем бесплатно, будет стыдно.
Екатерина Цветкова: Так вот, хочу сказать о следующем: девелопер «Весна» может стать тем, кто перевод с одного языка на другой устроит. Как выглядят наши кейсы: есть инвестор, у которого деньги и много земельного банка, он говорит: «Мне нужно столько-то квадратных метров, и чтобы столько-то маржи с каждого. Больше ничего не интересует». И есть обычный коммерческий архитектор, который берется за площадку. Заказчик может диктовать ему свои условия. Что делаю я как девелопер: прихожу к архитектору, и мой первый вопрос: «Композиционно этот объем сюда встанет? Не испортит городскую ткань? Впишется в существующую застройку?» Если слышу ответ: «да», возвращаюсь к инвестору и сообщаю: «Вроде летит». Если ответ архитектора будет: «Ни в коем случае», я потрачу уйму времени и сил и придумаю разные ухищрения, как доказать инвестору необходимость не меньшего съема, конечно, но достижения его другими средствами: повышением ценности, извлечением дохода из каких-то смежных историй. Потому что архитектор – главный на проекте. Он должен сказать, как будет хорошо. То, что мы делаем, простоит сто лет, на нем вырастут несколько поколений. Когда я начинаю думать об этом, мурашки по коже.
Елена Тельпиз: Олег Владимирович, а у вас общий язык найден?
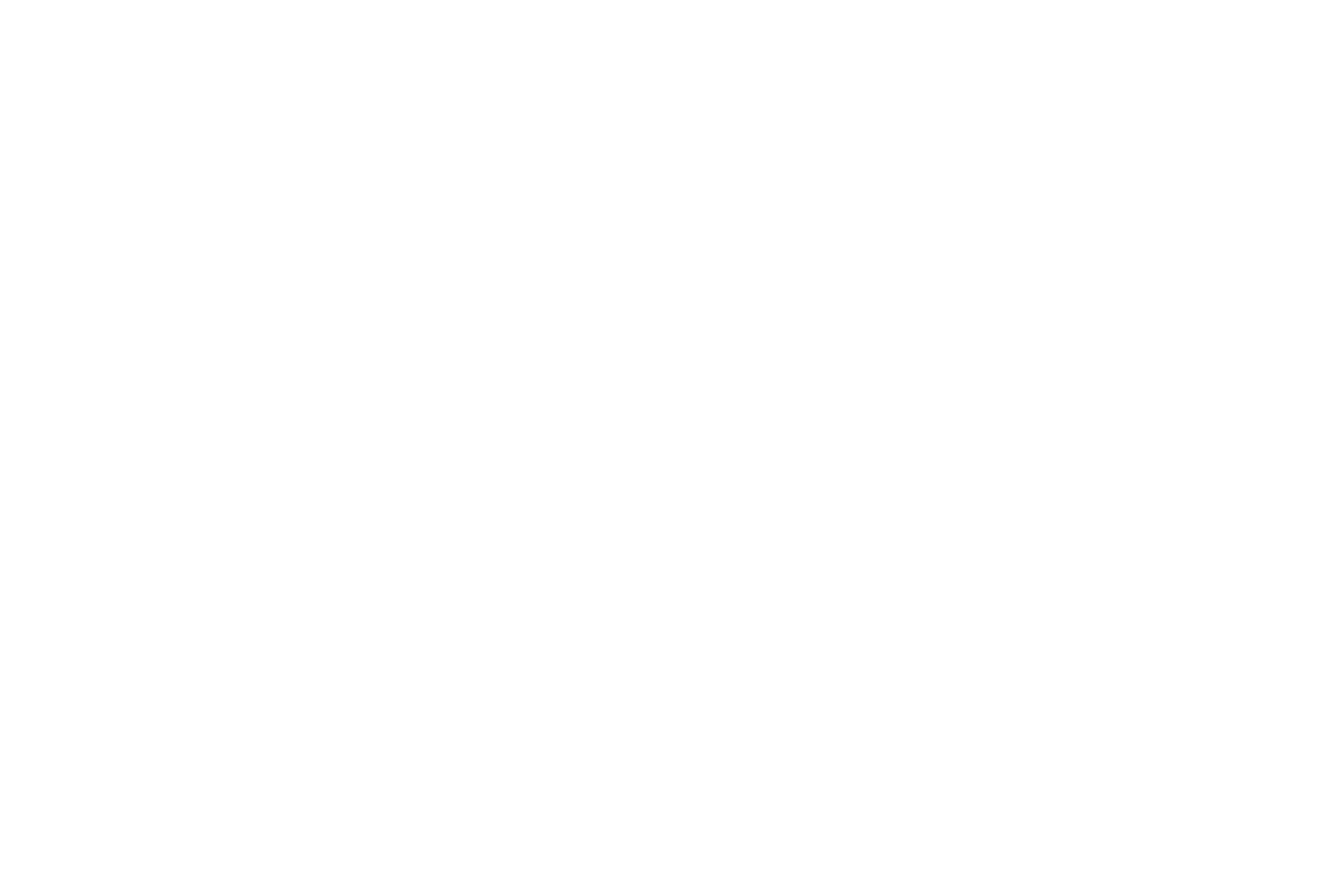
Нас постоянно подводят к мысли, что ты должен быть социально ответственным. Мое кредо такое – я ничего не должен, кроме внутреннего удовлетворения. А государство, чиновники – должны, они обязаны установить нормативы, спросить с меня. Власть на то и власть, чтобы как давать, так и брать. У нас эта цепочка рушится.
Олег Лакницкий: Если пока не найден, все равно найду)) То, что надо его искать, делать хорошо и красиво, – понятно для всех. Что экономика диктует свои правила – тоже понятно. В 2006 году, когда я взял «ТРЕСТ «Магнитострой», землю продавали за пятьсот миллионов рублей – микрорайон. Понятно, что в то время мне было наплевать на комфорт, я лепил. Сейчас заезжаю туда, и мне стыдно, что когда-то пренебрег некоторыми вещами. В тот период стыдно не было, требовалось возвращать деньги. Нас постоянно подводят к мысли, что ты должен быть социально ответственным. Мое кредо такое – я ничего не должен, кроме внутреннего удовлетворения. А государство, чиновники – должны, они обязаны установить нормативы, спросить с меня. Власть на то и власть, чтобы как давать, так и брать. У нас эта цепочка рушится. Говорю с учетом пройденной жизни: я не знаю и не верю в существование людей, которым все безразлично и по фигу. Просто есть обстоятельства, созданные искусственно. Те же законы не проработаны, и люди этим пользуются.
Дмитрий Воронков: Знаете, то, что вы сейчас говорите, это правильно и сильнее осознается либо с возрастом, либо с заработанными деньгами. Надеюсь, когда-нибудь у тех, кто занимается стройкой, возникнет мысль, что надо все-таки соответствовать качеству. Есть крупный застройщик, к которому мы пришли и предложили: «Давайте благоустроим территорию красиво». На что нам ответили: «Ну, красиво я сделаю дом, а вы дайте цену на самый дешевый зеленый материал, я его воткну – и нормально». Честно говоря, хочется, чтобы такого не было. Это та инфраструктура, в которую люди заходят и живут с ней рядом.
Денис Ни: Проблема в головах предпринимателей всегда. Лет пятнадцать назад чуть ли не первый вопрос потребителя к застройщику был: «У вас окна пластиковые?» Если какой-то элемент или параметр инфраструктуры дома в глазах человека воспринимается как достоинство, он сам неоднократным обращением к застройщику вызовет у того большое желание это достоинство начать у себя создавать. Работать нужно с потребителями. Убедить их, что количество зеленых насаждений жизненно необходимо. Чтобы сто тысяч челябинцев пришли и спросили не про стоимость, не про пластик, а что там с зелеными насаждениями. И через какое-то время деревья будут продаваться в огромном количестве, как в свое время произошло с пластиковыми окнами. И никакой проблемы.
Дмитрий Воронков: Знаете, то, что вы сейчас говорите, это правильно и сильнее осознается либо с возрастом, либо с заработанными деньгами. Надеюсь, когда-нибудь у тех, кто занимается стройкой, возникнет мысль, что надо все-таки соответствовать качеству. Есть крупный застройщик, к которому мы пришли и предложили: «Давайте благоустроим территорию красиво». На что нам ответили: «Ну, красиво я сделаю дом, а вы дайте цену на самый дешевый зеленый материал, я его воткну – и нормально». Честно говоря, хочется, чтобы такого не было. Это та инфраструктура, в которую люди заходят и живут с ней рядом.
Денис Ни: Проблема в головах предпринимателей всегда. Лет пятнадцать назад чуть ли не первый вопрос потребителя к застройщику был: «У вас окна пластиковые?» Если какой-то элемент или параметр инфраструктуры дома в глазах человека воспринимается как достоинство, он сам неоднократным обращением к застройщику вызовет у того большое желание это достоинство начать у себя создавать. Работать нужно с потребителями. Убедить их, что количество зеленых насаждений жизненно необходимо. Чтобы сто тысяч челябинцев пришли и спросили не про стоимость, не про пластик, а что там с зелеными насаждениями. И через какое-то время деревья будут продаваться в огромном количестве, как в свое время произошло с пластиковыми окнами. И никакой проблемы.
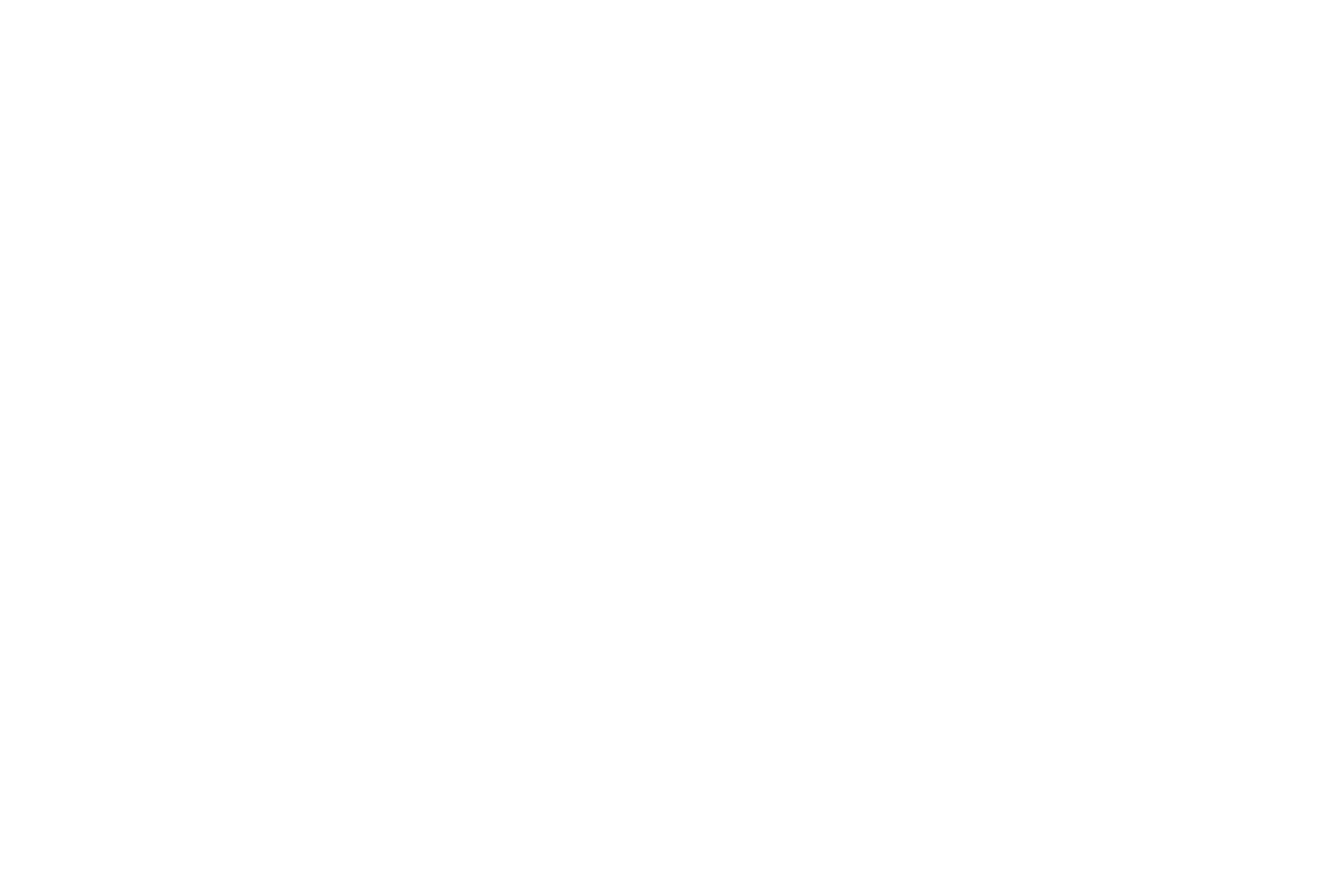
Петр Стебельский: Через этот этап нужно было пройти Челябинску. Юревич работал в трендах, которые поддерживали люди. Когда он дороги расширил, все же в ладоши хлопали! Появился проект «Паркового» – тоже. Студия стоила 990 тысяч или около того. И с этого момента начала загнивать архитектура. Пошла игра на понижение цены и все порушила. В таких условиях не может быть никакой комфортной городской среды.
Олег Лакницкий: Юревич делал для себя, но и людям давал. Не надо это недооценивать. Он строил дороги, какие-то пространства. Вот если человек встает на чиновничью должность и думает исключительно о деньгах, все рушится.
Олег Лакницкий: Юревич делал для себя, но и людям давал. Не надо это недооценивать. Он строил дороги, какие-то пространства. Вот если человек встает на чиновничью должность и думает исключительно о деньгах, все рушится.
Павел Крутолапов: Согласен. Немного вернусь назад. Я чувствую, что появился некий тренд. Застройщики конкурируют друг с другом не столько с точки зрения продаж, сколько в создании продукта. Потому что, как ни крути, ты – то, что ты делаешь, и больше почти ничто. И такой тренд мы ощущаем. Это дает надежду, что с каждым годом будут чаще возникать продукты, у которых в системе ценностей окажутся не только пластиковые окна и свободная планировка, но и хорошая прилегающая территория. Я понимаю Олега Владимировича, который строит двести тысяч квадратных метров в год. Как это работает: мне приносят на согласование проект, где должны содержаться фасадные решения, градостроительное обоснование, генплан. Но 90 % проектов просто не имеют ни малейшей проработки прилегающей территории. Извините, кто должен этим заниматься, когда даже у архитекторов нет никакого понимания необходимости? В конце года мы выпустим регламент по озеленению города. В документе будут породные составы, будут рекомендации, где, как и что садить. Будет приложение – опросные листы, которые проектировщик сможет взять себе и заложить в проект, а там прописаны и толщина ствола, и количество скелетных ветвей. Когда появится готовый продукт, мы поделимся со всеми ребятами, кто занимается озеленением. Это будет бесплатно – заходи и бери. Вот так администрация может стимулировать развитие, вот это мы делаем.
Дмитрий Воронков: Моя предыдущая фраза была именно о документообороте. Это как раз то, что я хотел. Сейчас, когда вы приходите к застройщику и говорите: «Но как же так, в законе Челябинска от 2004 года есть требования…», он просто машет руками: «Нам не интересно. Мы из леса выкопали, в город принесли». А то, что они в город из леса принесли болезни, им просто наплевать. Не буду называть крупную компанию, к которой я зашел на район: «У вас же растения больны». – «Не-не, у нас все хорошо». Через месяц все выкопали, дерн срезали… Поэтому то, что делает Павел, я считаю самым правильным решением. Когда в Москве такое ввели, дворы стали выглядеть совершенно по-другому.
Павел Крутолапов: Я даже не знал, что в Москве такое ввели…
Дмитрий Воронков: «КБ Стрелка» разрабатывала проект.
Анна Шипина: Тут еще тема: одно дело посадить деревья, растения, и другое – ухаживать за ними.
Дмитрий Воронков: Моя предыдущая фраза была именно о документообороте. Это как раз то, что я хотел. Сейчас, когда вы приходите к застройщику и говорите: «Но как же так, в законе Челябинска от 2004 года есть требования…», он просто машет руками: «Нам не интересно. Мы из леса выкопали, в город принесли». А то, что они в город из леса принесли болезни, им просто наплевать. Не буду называть крупную компанию, к которой я зашел на район: «У вас же растения больны». – «Не-не, у нас все хорошо». Через месяц все выкопали, дерн срезали… Поэтому то, что делает Павел, я считаю самым правильным решением. Когда в Москве такое ввели, дворы стали выглядеть совершенно по-другому.
Павел Крутолапов: Я даже не знал, что в Москве такое ввели…
Дмитрий Воронков: «КБ Стрелка» разрабатывала проект.
Анна Шипина: Тут еще тема: одно дело посадить деревья, растения, и другое – ухаживать за ними.
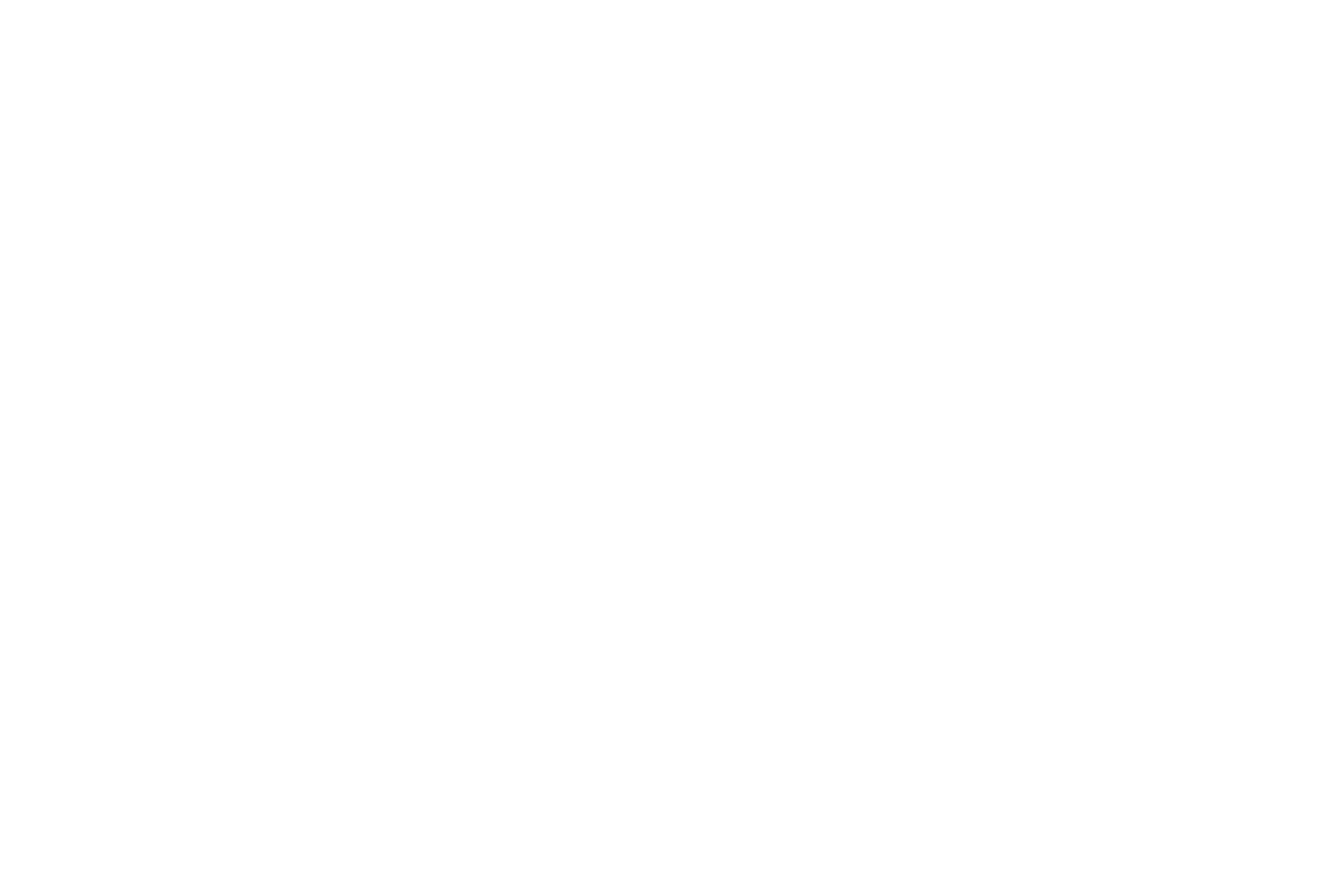
Сергей Пахомов, директор строительной компании «Голос Девелопмент»
– С точки зрения среды, которую хочет видеть человек, Челябинск ничем не отличается от Калининграда, Оренбурга или Москвы. Все те же критерии: разнообразие, соразмерность, благоустроенность, дружелюбие к посетителям разного типа – пешеходам, велосипедистам, автомобилистам. В этом плане жители Челябинска по-хорошему стандартные. Если застройщики и иные представители бизнеса, которые «входят» в урбанистику впервые, смогут воспринять этот импульс, реализовать проекты, учитывая новые настроения, спустя время они точно окажутся в выигрыше. Мы как строительная компания, безусловно, не в стороне от этих вопросов, и наши проекты на ЧТЗ, Алом поле, в районе «Каширинского рынка», L-Town также внесут свой вклад в формирование нового облика Челябинска и пригорода. Думаю, через год-два мы получим достаточно цельную среду, которая сама будет налагать ограничения на тех, кто участвует в формировании городской застройки, делать на таком же уровне или лучше.
– С точки зрения среды, которую хочет видеть человек, Челябинск ничем не отличается от Калининграда, Оренбурга или Москвы. Все те же критерии: разнообразие, соразмерность, благоустроенность, дружелюбие к посетителям разного типа – пешеходам, велосипедистам, автомобилистам. В этом плане жители Челябинска по-хорошему стандартные. Если застройщики и иные представители бизнеса, которые «входят» в урбанистику впервые, смогут воспринять этот импульс, реализовать проекты, учитывая новые настроения, спустя время они точно окажутся в выигрыше. Мы как строительная компания, безусловно, не в стороне от этих вопросов, и наши проекты на ЧТЗ, Алом поле, в районе «Каширинского рынка», L-Town также внесут свой вклад в формирование нового облика Челябинска и пригорода. Думаю, через год-два мы получим достаточно цельную среду, которая сама будет налагать ограничения на тех, кто участвует в формировании городской застройки, делать на таком же уровне или лучше.
Дмитрий Воронков: Во!
Анна Шипина: Я тоже фанат озеленения. Знаете, как радовалась цветению гортензии в этом году! Но вышла на Алое поле, у меня там родители живут: да, что-то посадили, что-то даже не умерло. Но заметно, что растениям не хватает полива. Надо дойти до уровня, когда мы будем не только благоустраивать город, но и поддерживать благоустройство. Должен быть полив, нужна инфраструктура для этого.
Дмитрий Воронков: Почему в Китае в мегаполисах все живет, хотя экология жуткая? Да потому, что там капельный полив везде. Это дорого, но его сделали один раз, и никто не ездит с поливальными машинами.
Елена Тельпиз: Хочу уйти от частного к более общему: вот у нас здесь представители бизнеса в основном. Когда назначали Павла, какие у вас были ожидания?
Павел Крутолапов: Может, мне лучше выйти?))
Дмитрий Воронков: Ожидания простые – что серый колхоз закончится. В общем, так и происходит. Это мое личное мнение.
Екатерина Цветкова: Что пришел человек, который знает, как надо.
Олег Лакницкий: Мы с Павлом познакомились до его назначения. Он мне делал один проект – сквер на месте обрушившегося дома. Я был удивлен, первое, тем, что он ушел от частного бизнеса, и второе, что он согласился на эту тему. Считаю, на самом деле пришел специалист. Я сталкивался с его предшественниками и понимал, что их мышление вообще не в ногу со временем. Поэтому, честно, было приятно. Другой вопрос: вначале не знаешь, как человек поведет себя, справится он или нет. Власть сильно портит людей. Можно сказать, пока этот «рак» на него не переполз еще. Он искренне делает, для души.
Дмитрий Воронков: Даже краснеть не разучился))
Олег Лакницкий: Я не разбираюсь в архитектуре и сразу говорю своим проектантам: «Идите в кабинет главного архитектора…»
Павел Крутолапов: Это правда, спасибо большое))
Олег Лакницкий: «…Есть параметры, которые я должен соблюсти по закону. Обеспечьте мне метры, с остальным – к Крутолапову. Поставит визу? Значит, будет так. Он у нас законодатель этой моды».
Дмитрий Воронков: К чести Павла можно сказать, что он очень сомневался, когда принимал приглашение (мы общались), потому что взвешивал груз ответственности. Он осознавал, что должность в принципе расстрельная. И второе, что приятно удивило, – когда ему приносишь даже мелкие проекты, он вникает во все. Это несколько тормозит процесс, но дает качество, и город со скрипом, но начинает меняться. Мне кажется, когда ты, Паша, шел в эту сферу, про озеленение ведь вообще не думал?
Павел Крутолапов: Да нет, это было одной из моих повесток. Я полгода сомневался, а когда согласился, то выбрал себе четыре «кита», на которых можно плыть.
Анна Шипина: Я тоже фанат озеленения. Знаете, как радовалась цветению гортензии в этом году! Но вышла на Алое поле, у меня там родители живут: да, что-то посадили, что-то даже не умерло. Но заметно, что растениям не хватает полива. Надо дойти до уровня, когда мы будем не только благоустраивать город, но и поддерживать благоустройство. Должен быть полив, нужна инфраструктура для этого.
Дмитрий Воронков: Почему в Китае в мегаполисах все живет, хотя экология жуткая? Да потому, что там капельный полив везде. Это дорого, но его сделали один раз, и никто не ездит с поливальными машинами.
Елена Тельпиз: Хочу уйти от частного к более общему: вот у нас здесь представители бизнеса в основном. Когда назначали Павла, какие у вас были ожидания?
Павел Крутолапов: Может, мне лучше выйти?))
Дмитрий Воронков: Ожидания простые – что серый колхоз закончится. В общем, так и происходит. Это мое личное мнение.
Екатерина Цветкова: Что пришел человек, который знает, как надо.
Олег Лакницкий: Мы с Павлом познакомились до его назначения. Он мне делал один проект – сквер на месте обрушившегося дома. Я был удивлен, первое, тем, что он ушел от частного бизнеса, и второе, что он согласился на эту тему. Считаю, на самом деле пришел специалист. Я сталкивался с его предшественниками и понимал, что их мышление вообще не в ногу со временем. Поэтому, честно, было приятно. Другой вопрос: вначале не знаешь, как человек поведет себя, справится он или нет. Власть сильно портит людей. Можно сказать, пока этот «рак» на него не переполз еще. Он искренне делает, для души.
Дмитрий Воронков: Даже краснеть не разучился))
Олег Лакницкий: Я не разбираюсь в архитектуре и сразу говорю своим проектантам: «Идите в кабинет главного архитектора…»
Павел Крутолапов: Это правда, спасибо большое))
Олег Лакницкий: «…Есть параметры, которые я должен соблюсти по закону. Обеспечьте мне метры, с остальным – к Крутолапову. Поставит визу? Значит, будет так. Он у нас законодатель этой моды».
Дмитрий Воронков: К чести Павла можно сказать, что он очень сомневался, когда принимал приглашение (мы общались), потому что взвешивал груз ответственности. Он осознавал, что должность в принципе расстрельная. И второе, что приятно удивило, – когда ему приносишь даже мелкие проекты, он вникает во все. Это несколько тормозит процесс, но дает качество, и город со скрипом, но начинает меняться. Мне кажется, когда ты, Паша, шел в эту сферу, про озеленение ведь вообще не думал?
Павел Крутолапов: Да нет, это было одной из моих повесток. Я полгода сомневался, а когда согласился, то выбрал себе четыре «кита», на которых можно плыть.
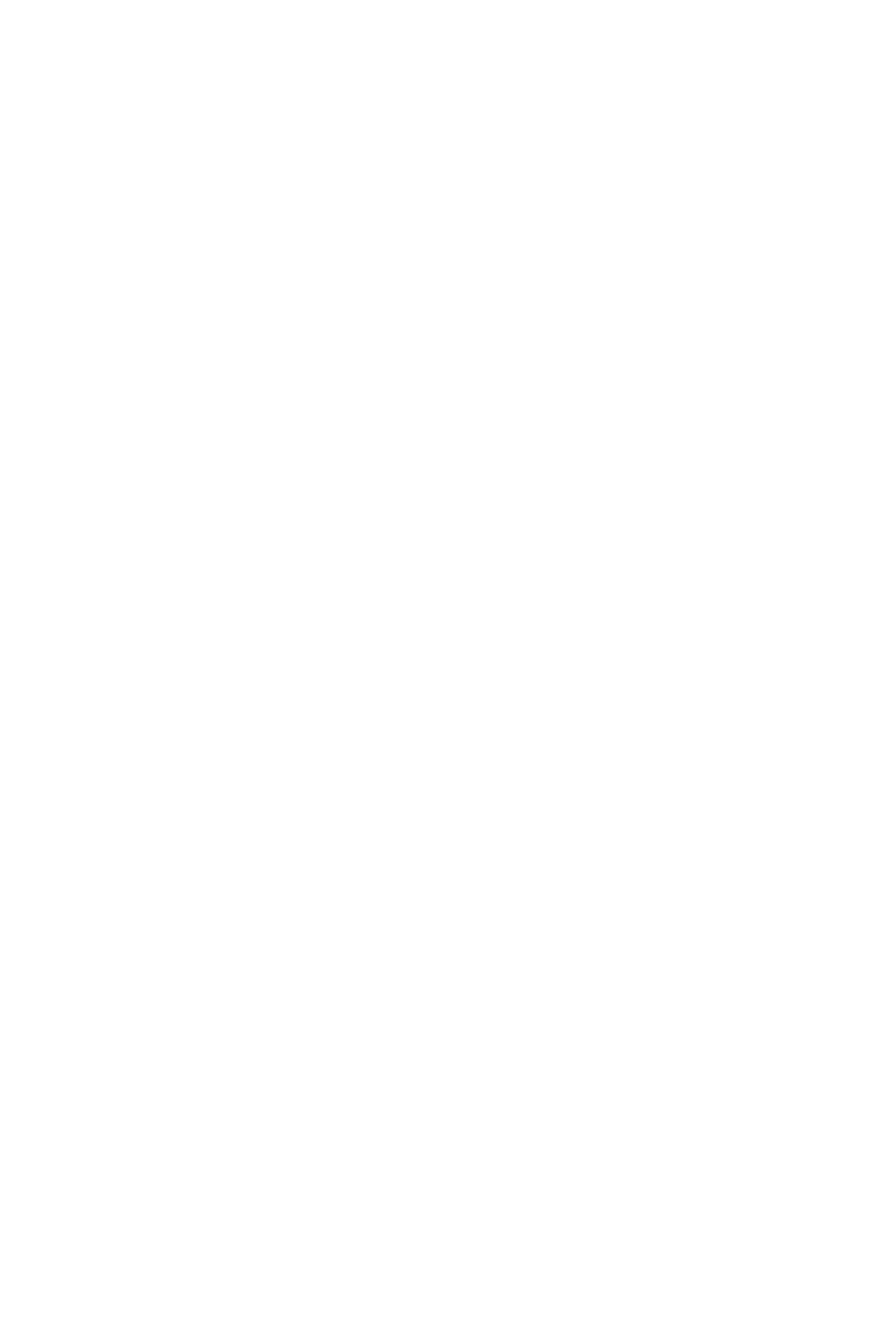
С Екатеринбургом связан конец семьи последнего императора. В войну туда эвакуировали картины из Эрмитажа. Свердловск – родина первого президента России, и это не могло не пройти бесследно. Так исторически сложилось, что в Екатеринбурге видели интеллектуальный потенциал, а в Челябинск ехали рабочие люди.
Елена Тельпиз: Что это были за «киты»? От чего-нибудь пришлось отступиться?
Павел Крутолапов: Ни от чего не пришлось. Я болезненно переношу свой проигрыш. Не умею проигрывать. А киты – это озеленение, городская связанность (я имею в виду в том числе безбарьерную среду и сам каркас связанности, здесь идут большие наработки). Потом – дифференциация застройки в городе и повышение плотности центра.
Елена Тельпиз: Есть два мнения: в Челябинске нужно застраивать центр, и в Челябинске нужны несколько центров…
Павел Крутолапов: Это не два разных мнения, это одно и то же. Смотрите, есть центр города, и он всегда будет один. В нашем случае он сформирован, понятен, но это не значит, что город не должен быть полицентричным. Если на северо-западе проживают полмиллиона человек, то, извините, у него должен быть свой локальный центр? Что вообще такое – центр города? Это не географическая точка, а набор сервисов, который позволяет в конкретном месте получить то, что ты хочешь сейчас получить. Тут и кафе, и инфраструктура для спорта, и культура, и много всего. Мы сегодня формируем полицентр на северо-западе, в районе Академика Королева. Уже и губернатор высказался по суперобъектам, которые там появятся в ближайшие годы. Полицентричность – это важно. Она влияет и на маятниковую миграцию, и на комфорт района, и на ценник квадратного метра – абсолютно на все. Теперь про центр города – тут не может быть никаких мнений. Есть простая аналитика. Берем любой миллионник (я даже не про Мадрид или Прагу – про Екатеринбург, Пермь, Москву) и смотрим показатели коэффициента плотности центра. В Челябинске он самый низкий. Это означает, что центр города рыхлый. Что, несмотря на сформированные, словами Дениса Ни (спасибо за классный тезис), ценности, потенциал не выработан. Ценности не используются на полную катушку, как если бы под капотом было двести лошадиных сил, а вы ездили бы 20 километров в час. И тут не может быть никаких мнений. Какие? Сохранять культурное наследие, безусловно, нужно. Без истории нет будущего. Но это не означает, что не надо строить большие объекты, суперобъекты с другим коэффициентом плотности. Еще одна большая проблема: если сравнивать центр города с тем же северо-западом, виден безумный дисбаланс. В центре – все сервисы, и нет жилых квадратных метров от слова совсем, а там одни жилые квадратные метры, и нет сервисов. Это нужно уравновешивать, и это в том числе и наша задача.
Дмитрий Воронков: Показательный пример – город Гамбург, где в свое время весь центр был застроен промышленными зданиями, офисами. Так вот, после 19:00 он просто вымирает, нет ни одного человека на десятки гектаров.
Елена Тельпиз: А что мешает строить в центре Челябинска?
Дмитрий Воронков: Наверное, наличие чужой собственности.
Павел Крутолапов: Я думаю, бизнесмены долго были в парадигме – в центре города надо строить офисы. Сейчас начинают понимать, что пора создавать какие-то mix-use'ды, где будут и коммерческая недвижимость, и другая. Mix-use'ды, смешанное использование – вообще тема будущего. Долго жило это тупое советское понятие зонирования – здесь жилье, а там предприятия торговли. И это наследие советское, которое некоторые боготворят, – проклятие наше. Нет зонированию! Надо все перемешать. Люди не ходят прямо-налево-прямо-налево и не живут так.
Елена Тельпиз: Я недавно в одной беседе сказала: «Моя жизненная философия – сносить старое и строить новое».
Петр Стебельский: Это не делалось, потому что за пределами центра города очень много пустой земли. Зачем возиться с занятой? Это не входит в интересы предпринимателя, потому что долго и дорого. А если помнить, что время – деньги, то получается дорого в квадрате.
Дмитрий Воронков: Да, цена на землю в центре города неадекватная.
Екатерина Цветкова: У нас каждое рабочее совещание на Лесопарковой так проходит: «Вот здесь крупномеры хочется посадить». – «Нельзя, коридор сетей». 30 % земли свободно, остальное занято сетями. Там под землей целый город!
Павел Крутолапов: Это проблема большая, я согласен.
Анна Шипина: Чтобы запустить сети к современному жилому комплексу, нужно сначала убрать все старое, а потом положить новое.
Анна Шипинна: Те же двухэтажки старые на ЧТЗ – «красные линии» не позволяют там действовать. Нужно объединить много-много участков, чтобы построить что-то более-менее современное. Не одну точечную застройку, а комплексную, как мы все любим. Это кажется простым.
Денис Ни: Если застройщик видит рыночную нишу, в том числе географическую, он преодолеет все: выкупит предприятие, которое раньше производило посадочные модули, сделает редевелопмент территории, откроет «Белый рынок», если есть…
Екатерина Цветкова: Десять лет.
Денис Ни: …возможность заработать. В начале нулевых, я хорошо помню, Северо-Запад был великолепен. Прекрасные дороги, умеренная плотность жилья, современная инфраструктура – школы, детские сады. Плюс экологически он всегда был более чистым. На старом Северке оставалось чувство места. Совершенно другая атмосфера, классная, пока туда не понавтыкали огромное количество микрорайонов. Теперь лютая автомобилизация из-за маятниковой трудовой миграции вкупе с деградацией общественного транспорта. Но сформировалась мода на жизнь на Северо-Западе. До сих пор «Легион» продает там квадратный метр дороже порой, чем в центре города.
Анна Шипина: Не потому, что на Северо-Западе, а потому, что «Легион». Он продает среду.
Павел Крутолапов: «Легион», «Голос Девелопмент» предлагает продукт, создает ценности на этой территории.
Денис Ни: Наличие такого продукта на Северо-Западе продвигало район само по себе. Но, мне кажется, все, наступает предел. Пора возвращаться в центр города.
Павел Крутолапов: В 1970-х годах господина Глазырина, он был главным архитектором (великий человек на самом деле!), вызвали на ковер в партию и говорят: «У нас заводы развиваются. Где людей будем селить?» И он сказал: «На северо-западе». Застройку, о чем Денис говорит, заложили еще тогда. Если посмотреть проект метро, который был, оно как раз-таки связывало проходные наших заводов и северо-запад.
Павел Крутолапов: Другое дело, что все это планировалось до такого коэффициента автомобилизации. Понятным способом переноса масс населения считалось метро. Потом с метро не срослось, заводы закрылись, а генплан начали реализовывать прежний, хотя структура общества поменялась. И конечно – зачем застройщику идти в проблемный продукт? Я с коллегами полностью согласен – расселять, ковыряться? Вот тебе поле. Строишь квадратные метры, оборачиваешь капитал в год и уходишь. И никто не просит дороги, садики, благоустройство. Несколько торговых центров на развязках, и ok. Сейчас только-только стритретейл начинает возвращаться, а он и есть богатство города. Торговые комплексы – нет, не город. Это не местные предприниматели, не местные налогоплательщики. Наша задача – вернуть стритретейл, создать полицентр, чтобы люди не ехали куда-то, а ходили пешком и могли взаимодействовать с городом. Автомобилист не является пользователем города, потому что все, что он потребляет, – это дорога и торговые центры.
Дмитрий Воронков: Когда приходишь на пустое поле и видишь, что вокруг до хрена государственного, то есть ничьего, взять это достаточно легко. Но как только все попадает в частные руки, обратно вернуть практически нереально, даже государственным способом.
Елена Тельпиз: Да ладно, есть куча примеров. Другой вопрос: сейчас у многих появляется интерес к правильной организации городского пространства, своеобразный тренд на урбанистику…
Екатерина Цветкова: Что же вы не позвали «главного эксперта»?))
Елена Тельпиз: Может ли частный бизнес использовать такой тренд себе во благо?
Павел Крутолапов: Ни от чего не пришлось. Я болезненно переношу свой проигрыш. Не умею проигрывать. А киты – это озеленение, городская связанность (я имею в виду в том числе безбарьерную среду и сам каркас связанности, здесь идут большие наработки). Потом – дифференциация застройки в городе и повышение плотности центра.
Елена Тельпиз: Есть два мнения: в Челябинске нужно застраивать центр, и в Челябинске нужны несколько центров…
Павел Крутолапов: Это не два разных мнения, это одно и то же. Смотрите, есть центр города, и он всегда будет один. В нашем случае он сформирован, понятен, но это не значит, что город не должен быть полицентричным. Если на северо-западе проживают полмиллиона человек, то, извините, у него должен быть свой локальный центр? Что вообще такое – центр города? Это не географическая точка, а набор сервисов, который позволяет в конкретном месте получить то, что ты хочешь сейчас получить. Тут и кафе, и инфраструктура для спорта, и культура, и много всего. Мы сегодня формируем полицентр на северо-западе, в районе Академика Королева. Уже и губернатор высказался по суперобъектам, которые там появятся в ближайшие годы. Полицентричность – это важно. Она влияет и на маятниковую миграцию, и на комфорт района, и на ценник квадратного метра – абсолютно на все. Теперь про центр города – тут не может быть никаких мнений. Есть простая аналитика. Берем любой миллионник (я даже не про Мадрид или Прагу – про Екатеринбург, Пермь, Москву) и смотрим показатели коэффициента плотности центра. В Челябинске он самый низкий. Это означает, что центр города рыхлый. Что, несмотря на сформированные, словами Дениса Ни (спасибо за классный тезис), ценности, потенциал не выработан. Ценности не используются на полную катушку, как если бы под капотом было двести лошадиных сил, а вы ездили бы 20 километров в час. И тут не может быть никаких мнений. Какие? Сохранять культурное наследие, безусловно, нужно. Без истории нет будущего. Но это не означает, что не надо строить большие объекты, суперобъекты с другим коэффициентом плотности. Еще одна большая проблема: если сравнивать центр города с тем же северо-западом, виден безумный дисбаланс. В центре – все сервисы, и нет жилых квадратных метров от слова совсем, а там одни жилые квадратные метры, и нет сервисов. Это нужно уравновешивать, и это в том числе и наша задача.
Дмитрий Воронков: Показательный пример – город Гамбург, где в свое время весь центр был застроен промышленными зданиями, офисами. Так вот, после 19:00 он просто вымирает, нет ни одного человека на десятки гектаров.
Елена Тельпиз: А что мешает строить в центре Челябинска?
Дмитрий Воронков: Наверное, наличие чужой собственности.
Павел Крутолапов: Я думаю, бизнесмены долго были в парадигме – в центре города надо строить офисы. Сейчас начинают понимать, что пора создавать какие-то mix-use'ды, где будут и коммерческая недвижимость, и другая. Mix-use'ды, смешанное использование – вообще тема будущего. Долго жило это тупое советское понятие зонирования – здесь жилье, а там предприятия торговли. И это наследие советское, которое некоторые боготворят, – проклятие наше. Нет зонированию! Надо все перемешать. Люди не ходят прямо-налево-прямо-налево и не живут так.
Елена Тельпиз: Я недавно в одной беседе сказала: «Моя жизненная философия – сносить старое и строить новое».
Петр Стебельский: Это не делалось, потому что за пределами центра города очень много пустой земли. Зачем возиться с занятой? Это не входит в интересы предпринимателя, потому что долго и дорого. А если помнить, что время – деньги, то получается дорого в квадрате.
Дмитрий Воронков: Да, цена на землю в центре города неадекватная.
Екатерина Цветкова: У нас каждое рабочее совещание на Лесопарковой так проходит: «Вот здесь крупномеры хочется посадить». – «Нельзя, коридор сетей». 30 % земли свободно, остальное занято сетями. Там под землей целый город!
Павел Крутолапов: Это проблема большая, я согласен.
Анна Шипина: Чтобы запустить сети к современному жилому комплексу, нужно сначала убрать все старое, а потом положить новое.
Анна Шипинна: Те же двухэтажки старые на ЧТЗ – «красные линии» не позволяют там действовать. Нужно объединить много-много участков, чтобы построить что-то более-менее современное. Не одну точечную застройку, а комплексную, как мы все любим. Это кажется простым.
Денис Ни: Если застройщик видит рыночную нишу, в том числе географическую, он преодолеет все: выкупит предприятие, которое раньше производило посадочные модули, сделает редевелопмент территории, откроет «Белый рынок», если есть…
Екатерина Цветкова: Десять лет.
Денис Ни: …возможность заработать. В начале нулевых, я хорошо помню, Северо-Запад был великолепен. Прекрасные дороги, умеренная плотность жилья, современная инфраструктура – школы, детские сады. Плюс экологически он всегда был более чистым. На старом Северке оставалось чувство места. Совершенно другая атмосфера, классная, пока туда не понавтыкали огромное количество микрорайонов. Теперь лютая автомобилизация из-за маятниковой трудовой миграции вкупе с деградацией общественного транспорта. Но сформировалась мода на жизнь на Северо-Западе. До сих пор «Легион» продает там квадратный метр дороже порой, чем в центре города.
Анна Шипина: Не потому, что на Северо-Западе, а потому, что «Легион». Он продает среду.
Павел Крутолапов: «Легион», «Голос Девелопмент» предлагает продукт, создает ценности на этой территории.
Денис Ни: Наличие такого продукта на Северо-Западе продвигало район само по себе. Но, мне кажется, все, наступает предел. Пора возвращаться в центр города.
Павел Крутолапов: В 1970-х годах господина Глазырина, он был главным архитектором (великий человек на самом деле!), вызвали на ковер в партию и говорят: «У нас заводы развиваются. Где людей будем селить?» И он сказал: «На северо-западе». Застройку, о чем Денис говорит, заложили еще тогда. Если посмотреть проект метро, который был, оно как раз-таки связывало проходные наших заводов и северо-запад.
Павел Крутолапов: Другое дело, что все это планировалось до такого коэффициента автомобилизации. Понятным способом переноса масс населения считалось метро. Потом с метро не срослось, заводы закрылись, а генплан начали реализовывать прежний, хотя структура общества поменялась. И конечно – зачем застройщику идти в проблемный продукт? Я с коллегами полностью согласен – расселять, ковыряться? Вот тебе поле. Строишь квадратные метры, оборачиваешь капитал в год и уходишь. И никто не просит дороги, садики, благоустройство. Несколько торговых центров на развязках, и ok. Сейчас только-только стритретейл начинает возвращаться, а он и есть богатство города. Торговые комплексы – нет, не город. Это не местные предприниматели, не местные налогоплательщики. Наша задача – вернуть стритретейл, создать полицентр, чтобы люди не ехали куда-то, а ходили пешком и могли взаимодействовать с городом. Автомобилист не является пользователем города, потому что все, что он потребляет, – это дорога и торговые центры.
Дмитрий Воронков: Когда приходишь на пустое поле и видишь, что вокруг до хрена государственного, то есть ничьего, взять это достаточно легко. Но как только все попадает в частные руки, обратно вернуть практически нереально, даже государственным способом.
Елена Тельпиз: Да ладно, есть куча примеров. Другой вопрос: сейчас у многих появляется интерес к правильной организации городского пространства, своеобразный тренд на урбанистику…
Екатерина Цветкова: Что же вы не позвали «главного эксперта»?))
Елена Тельпиз: Может ли частный бизнес использовать такой тренд себе во благо?
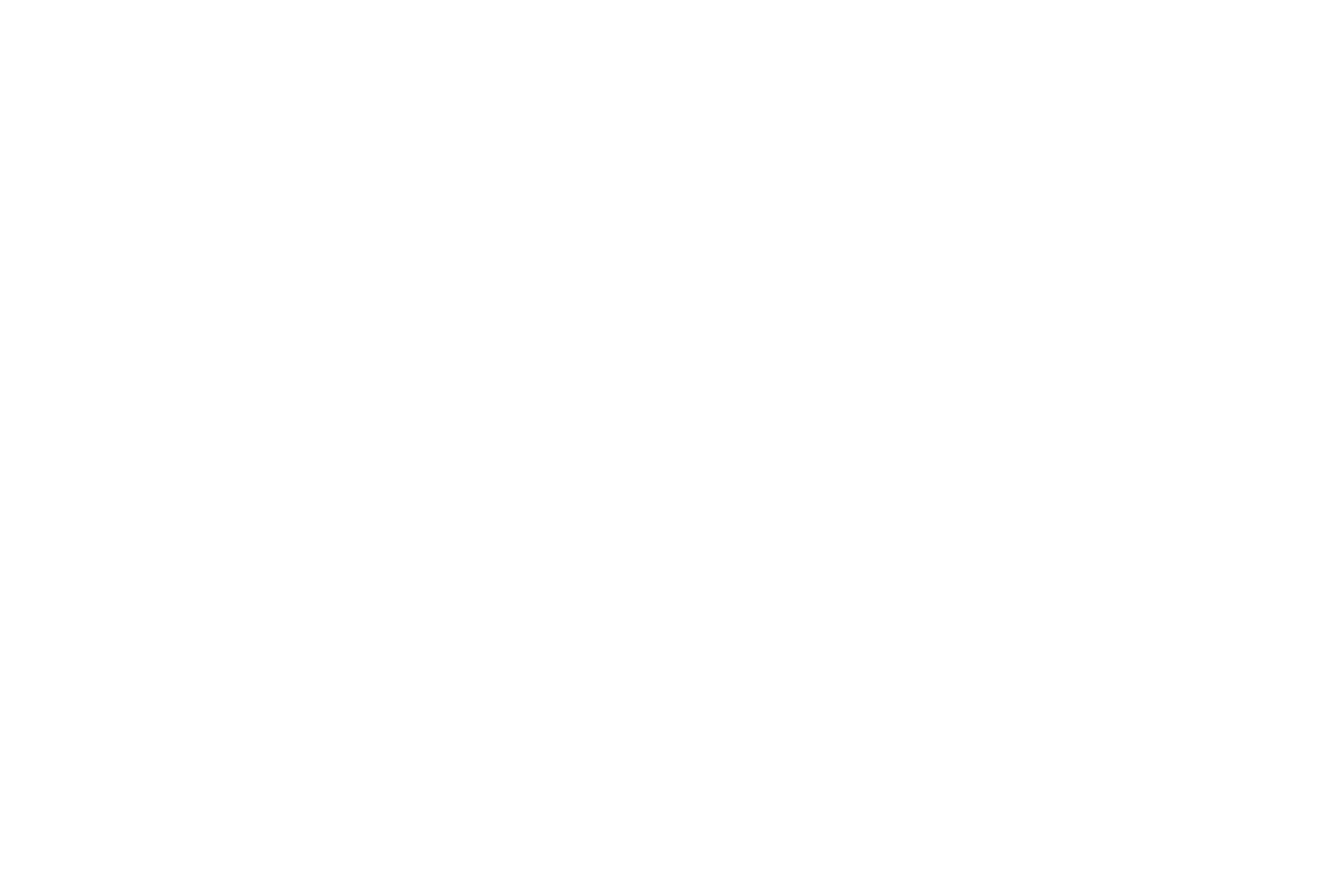
Я всегда удивляюсь: челябинцы ездят на хороших машинах, носят Bulgari, в доме итальянский диван стоит – и рассуждают о том, что у нас среда не готова, чтобы владеть чем-то хорошим. Ну ерунда полная! Пока эта уездность, провинциальность (как в песне Малежика «Провинциалка») не уйдет – ничего хорошего не появится.
Павел Крутолапов: Он и использует.
Денис Ни: Мне кажется, все уже написали, как «Одольскому сказочно повезло», имеется в виду «Мегаполису», что вдоль его главного фасада – замечательный фрагмент городской набережной. Ска-зоч-но))
Дмитрий Воронков: Не просто повезло, учитывая, что до этого он хотел за 120 миллионов проект делать.
Денис Ни: Каждый погонный метр городской набережной бесконечно радует, потому что у меня вся недвижимость – от жилой до коммерческой – в центре города. Понимаю ли я, что ее капитализация растет? Конечно понимаю)) Поэтому хожу и наблюдаю за всеми позитивными изменениями, регулярно их продвигаю, говорю, что надо бросать все остальные районы и срочно валить в центр.
Екатерина Цветкова: Кстати, к разговору о застройке в центре. Есть же еще одна интересная штука – высотные отметки, которые ты получаешь и не можешь грейдером пройтись, выровнять, а обязан «посадить» здание точно в них. Мой личный кейс: когда я пришла на Лесопарковую и дома номер 7 и 8 были уже на этапе каркаса, я ходила перед первым этажом и увидела, что он не вровень с землей. Спрашиваю: «Что это такое?» Мне говорят: «Это крыльца!» Есть такое слово – крыльца, хорошее, строительное. Значит, ступенек будет немножко. Я: «Стоп-стоп! Мы так не договаривались». У меня как у матери четверых детей четыре коляски. Я прекрасно знаю, что такое крыльца. Дальше была жутчайшая битва с проектировщиками, архитекторами, как все вывести в ноль. Масса нюансов продиктованы принципами урбанистики. Если бы их не было, плюнули бы и сказали: «Да нормально! Крыльца так крыльца».
Петр Стебельский: Екатерина, как представитель коммерции могли бы вы оценить ту выгоду, которую дополучаете благодаря создаваемой комфортной среде? Сколько у вас стоит квадрат? 80? Например 80. И сколько он мог бы стоить, если бы вы не пошли навстречу прогрессу и клиенту?
Екатерина Цветкова: Сложно сказать. Мне важнее, что все продано. Один из новых домов – уже полностью. И это круто, люди проголосовали.
Дмитрий Воронков: Дело не в цене, а в скорости продажи. Они сделали так, чтобы покупатели не разворачивались, не уходили дальше искать. Если клиент не думает о сложностях, которые у него возникнут после покупки, он берет.
Павел Крутолапов: Слушайте, здесь еще такая штука. В моем детстве мама с папой комфорт жизни считали квадратными метрами и, может быть, количеством комнат. Сегодня появляется понимание, что комфорт твоего быта определяет не только это, а много всего: отделка парадных (ненавижу слово подъезд), двор. Человеку становится важно, куда из своего двора он пойдет и как он пойдет. Когда это понимание в голове потребителя появляется, подключается бизнес, и мы этому способствуем. У бизнеса нет шансов не делать в будущем ставку на благоустройство. Сейчас такой тренд, и это важно. А совсем недавно его не было.
Елена Тельпиз: Но ведь подобные усовершенствования – безбарьерная среда, отсутствие крылечек – возможны только на проектах, которые стоят дорого.
Павел Крутолапов: Прекрасно, давайте делать только дорогие проекты. Посмотрите, диапазон предложений начинается от 30–40 тысяч за квадратный метр. Существуют покупатели первого порядка, они совершают первую сделку и идут за самым дешевым продуктом. И есть второго, которые покупают сценарий жизни. Давайте создавать сценарии жизни, а не квадратные метры. Квадратных метров у нас достаточно!
Денис Ни: В застройку центральный части города нужно вносить и такой параметр, как класс жилья. Представьте, как здорово: центр города – только бизнес-класс!
Дмитрий Воронков: Ну, Денис, будем о реальных вещах! Затронули тему, которая мне как бизнесмену более близка. Вкладывая в проект больше денег при равной стоимости жилья, застройщик все равно останется в выигрыше. Потому что скорость оборачиваемости вырастет. Если человек пришел и увидел интересный проект, с высокой вероятностью он сразу купит его, а не проект по соседству без того же озеленения, благоустройства и остального. Да, оборачиваемость может занять два-три года. Но там, где один построил дом, сэкономив, и продал его, тот, кто сделал хороший проект и вложил больше денег, продаст три и заработает больше. Моя позиция такова. В своем бизнесе я ее использую.
Елена Тельпиз: Мы часто засматриваемся, как сделано в Екатеринбурге или Казани. Можем повторить?
Дмитрий Воронков: На хрена?
Павел Крутолапов: Это большая ошибка – засматриваться на Екатеринбург и Казань. Это принципиально другие города с другими особенностями.
Василий Курбацких: Я специально съездил в Казань посмотреть Иннополис. В части организации строительства, непрерывности финансирования и государственного подхода – пять баллов. Но результат, если сказать мягко, никак не соответствует стандартам современной урбанистики… Я видел сорок лучших проектов Европы. Нам нужно брать пример не с Казани, тем более не с Екатеринбурга. Надо использовать мировой опыт, который абсолютно известен, и решать вопросы прежде всего законодательные. Пока мы не сделаем кварталы, условно, по 150 метров, не сделаем дворы без машин, проницаемость района города, рано чего-то ждать. У нас идеально запроектирован, как ни странно, ЧМЗ. И это одна из причин, почему оттуда не уезжают местные жители, – там комфортно.
Елена Тельпиз: Все, вы меня пристыдили! Я сформулировала вопрос как обыватель.
Екатерина Цветкова: Теперь сформулируйте как гражданин, урбанистически подкованный))
Елена Тельпиз: Я имела в виду, что хочу объекты, которых у нас нет. Хочу здание по проекту Нормана Фостера в центре Челябинска, а не в центре Екатеринбурга.
Дмитрий Воронков: Чтобы появилось топовое, нужно сначала подготовить все остальное. Представьте, что в лесу воткнут Эйфелеву башню. Будет она там смотреться?
Денис Ни: Я всегда удивляюсь: челябинцы ездят на хороших машинах, носят Bulgari, в доме итальянский диван стоит – и рассуждают о том, что у нас среда не готова, чтобы владеть чем-то хорошим. Ну ерунда полная! Пока эта уездность, провинциальность (как в песне Малежика «Провинциалка») не уйдет – ничего хорошего не появится.
Петр Стебельский: С Екатеринбургом связан конец семьи последнего императора. В войну туда эвакуировали картины из Эрмитажа. Свердловск – родина первого президента России, и это не могло не пройти бесследно. Так исторически сложилось, что в Екатеринбурге видели интеллектуальный потенциал, а в Челябинск ехали рабочие люди.
Павел Крутолапов: Нормана Фостера не обещаю, а итальянцы будут. Скоро, в 2023 году. Я говорю про «РМК Арену», там разработчики итальянские. Уникальное пространство. Рядом – экстрим-центр, академия тенниса. Все это будет «сидеть» в парке, а не окружено асфальтовым полем, по которому приятно дрифтовать.
Петр Стебельский: Челябинску необходима инвестиционная привлекательность.
Василий Курбацких: Нужно повышать стоимость жилья и вообще стоимость самого города. А для этого, если мы говорим о центре, придется ответить на вопрос, для любого челябинца актуальнейший: когда будет приемлемая экология, чтобы народ отсюда не уезжал?
Елена Тельпиз: Чего еще не хватает? Денег или компетенций?
Олег Лакницкий: И того и другого)
Анна Шипина: Нам не хватает драйверов. Чем Екатеринбург в двухстах километрах от нас отличается? Ну реально? География примерно та же.
Дмитрий Воронков: Административным ресурсом.
Анна Шипина: Там действительно пытаются притягивать в свою область что-то, что даст толчок зарабатывать больше, приезжать людям и привозить деньги. У нас нет такого. Харизмы лидерской не хватает. Должен быть человек, который болел бы за город, за область и потянул за собой изменения.
Елена Тельпиз: Хорошо! У Юревича были и ум, и деньги, и харизма, но все это было направлено на проекты, выгодные ему, а не городу.
Денис Ни: Мне кажется, все уже написали, как «Одольскому сказочно повезло», имеется в виду «Мегаполису», что вдоль его главного фасада – замечательный фрагмент городской набережной. Ска-зоч-но))
Дмитрий Воронков: Не просто повезло, учитывая, что до этого он хотел за 120 миллионов проект делать.
Денис Ни: Каждый погонный метр городской набережной бесконечно радует, потому что у меня вся недвижимость – от жилой до коммерческой – в центре города. Понимаю ли я, что ее капитализация растет? Конечно понимаю)) Поэтому хожу и наблюдаю за всеми позитивными изменениями, регулярно их продвигаю, говорю, что надо бросать все остальные районы и срочно валить в центр.
Екатерина Цветкова: Кстати, к разговору о застройке в центре. Есть же еще одна интересная штука – высотные отметки, которые ты получаешь и не можешь грейдером пройтись, выровнять, а обязан «посадить» здание точно в них. Мой личный кейс: когда я пришла на Лесопарковую и дома номер 7 и 8 были уже на этапе каркаса, я ходила перед первым этажом и увидела, что он не вровень с землей. Спрашиваю: «Что это такое?» Мне говорят: «Это крыльца!» Есть такое слово – крыльца, хорошее, строительное. Значит, ступенек будет немножко. Я: «Стоп-стоп! Мы так не договаривались». У меня как у матери четверых детей четыре коляски. Я прекрасно знаю, что такое крыльца. Дальше была жутчайшая битва с проектировщиками, архитекторами, как все вывести в ноль. Масса нюансов продиктованы принципами урбанистики. Если бы их не было, плюнули бы и сказали: «Да нормально! Крыльца так крыльца».
Петр Стебельский: Екатерина, как представитель коммерции могли бы вы оценить ту выгоду, которую дополучаете благодаря создаваемой комфортной среде? Сколько у вас стоит квадрат? 80? Например 80. И сколько он мог бы стоить, если бы вы не пошли навстречу прогрессу и клиенту?
Екатерина Цветкова: Сложно сказать. Мне важнее, что все продано. Один из новых домов – уже полностью. И это круто, люди проголосовали.
Дмитрий Воронков: Дело не в цене, а в скорости продажи. Они сделали так, чтобы покупатели не разворачивались, не уходили дальше искать. Если клиент не думает о сложностях, которые у него возникнут после покупки, он берет.
Павел Крутолапов: Слушайте, здесь еще такая штука. В моем детстве мама с папой комфорт жизни считали квадратными метрами и, может быть, количеством комнат. Сегодня появляется понимание, что комфорт твоего быта определяет не только это, а много всего: отделка парадных (ненавижу слово подъезд), двор. Человеку становится важно, куда из своего двора он пойдет и как он пойдет. Когда это понимание в голове потребителя появляется, подключается бизнес, и мы этому способствуем. У бизнеса нет шансов не делать в будущем ставку на благоустройство. Сейчас такой тренд, и это важно. А совсем недавно его не было.
Елена Тельпиз: Но ведь подобные усовершенствования – безбарьерная среда, отсутствие крылечек – возможны только на проектах, которые стоят дорого.
Павел Крутолапов: Прекрасно, давайте делать только дорогие проекты. Посмотрите, диапазон предложений начинается от 30–40 тысяч за квадратный метр. Существуют покупатели первого порядка, они совершают первую сделку и идут за самым дешевым продуктом. И есть второго, которые покупают сценарий жизни. Давайте создавать сценарии жизни, а не квадратные метры. Квадратных метров у нас достаточно!
Денис Ни: В застройку центральный части города нужно вносить и такой параметр, как класс жилья. Представьте, как здорово: центр города – только бизнес-класс!
Дмитрий Воронков: Ну, Денис, будем о реальных вещах! Затронули тему, которая мне как бизнесмену более близка. Вкладывая в проект больше денег при равной стоимости жилья, застройщик все равно останется в выигрыше. Потому что скорость оборачиваемости вырастет. Если человек пришел и увидел интересный проект, с высокой вероятностью он сразу купит его, а не проект по соседству без того же озеленения, благоустройства и остального. Да, оборачиваемость может занять два-три года. Но там, где один построил дом, сэкономив, и продал его, тот, кто сделал хороший проект и вложил больше денег, продаст три и заработает больше. Моя позиция такова. В своем бизнесе я ее использую.
Елена Тельпиз: Мы часто засматриваемся, как сделано в Екатеринбурге или Казани. Можем повторить?
Дмитрий Воронков: На хрена?
Павел Крутолапов: Это большая ошибка – засматриваться на Екатеринбург и Казань. Это принципиально другие города с другими особенностями.
Василий Курбацких: Я специально съездил в Казань посмотреть Иннополис. В части организации строительства, непрерывности финансирования и государственного подхода – пять баллов. Но результат, если сказать мягко, никак не соответствует стандартам современной урбанистики… Я видел сорок лучших проектов Европы. Нам нужно брать пример не с Казани, тем более не с Екатеринбурга. Надо использовать мировой опыт, который абсолютно известен, и решать вопросы прежде всего законодательные. Пока мы не сделаем кварталы, условно, по 150 метров, не сделаем дворы без машин, проницаемость района города, рано чего-то ждать. У нас идеально запроектирован, как ни странно, ЧМЗ. И это одна из причин, почему оттуда не уезжают местные жители, – там комфортно.
Елена Тельпиз: Все, вы меня пристыдили! Я сформулировала вопрос как обыватель.
Екатерина Цветкова: Теперь сформулируйте как гражданин, урбанистически подкованный))
Елена Тельпиз: Я имела в виду, что хочу объекты, которых у нас нет. Хочу здание по проекту Нормана Фостера в центре Челябинска, а не в центре Екатеринбурга.
Дмитрий Воронков: Чтобы появилось топовое, нужно сначала подготовить все остальное. Представьте, что в лесу воткнут Эйфелеву башню. Будет она там смотреться?
Денис Ни: Я всегда удивляюсь: челябинцы ездят на хороших машинах, носят Bulgari, в доме итальянский диван стоит – и рассуждают о том, что у нас среда не готова, чтобы владеть чем-то хорошим. Ну ерунда полная! Пока эта уездность, провинциальность (как в песне Малежика «Провинциалка») не уйдет – ничего хорошего не появится.
Петр Стебельский: С Екатеринбургом связан конец семьи последнего императора. В войну туда эвакуировали картины из Эрмитажа. Свердловск – родина первого президента России, и это не могло не пройти бесследно. Так исторически сложилось, что в Екатеринбурге видели интеллектуальный потенциал, а в Челябинск ехали рабочие люди.
Павел Крутолапов: Нормана Фостера не обещаю, а итальянцы будут. Скоро, в 2023 году. Я говорю про «РМК Арену», там разработчики итальянские. Уникальное пространство. Рядом – экстрим-центр, академия тенниса. Все это будет «сидеть» в парке, а не окружено асфальтовым полем, по которому приятно дрифтовать.
Петр Стебельский: Челябинску необходима инвестиционная привлекательность.
Василий Курбацких: Нужно повышать стоимость жилья и вообще стоимость самого города. А для этого, если мы говорим о центре, придется ответить на вопрос, для любого челябинца актуальнейший: когда будет приемлемая экология, чтобы народ отсюда не уезжал?
Елена Тельпиз: Чего еще не хватает? Денег или компетенций?
Олег Лакницкий: И того и другого)
Анна Шипина: Нам не хватает драйверов. Чем Екатеринбург в двухстах километрах от нас отличается? Ну реально? География примерно та же.
Дмитрий Воронков: Административным ресурсом.
Анна Шипина: Там действительно пытаются притягивать в свою область что-то, что даст толчок зарабатывать больше, приезжать людям и привозить деньги. У нас нет такого. Харизмы лидерской не хватает. Должен быть человек, который болел бы за город, за область и потянул за собой изменения.
Елена Тельпиз: Хорошо! У Юревича были и ум, и деньги, и харизма, но все это было направлено на проекты, выгодные ему, а не городу.
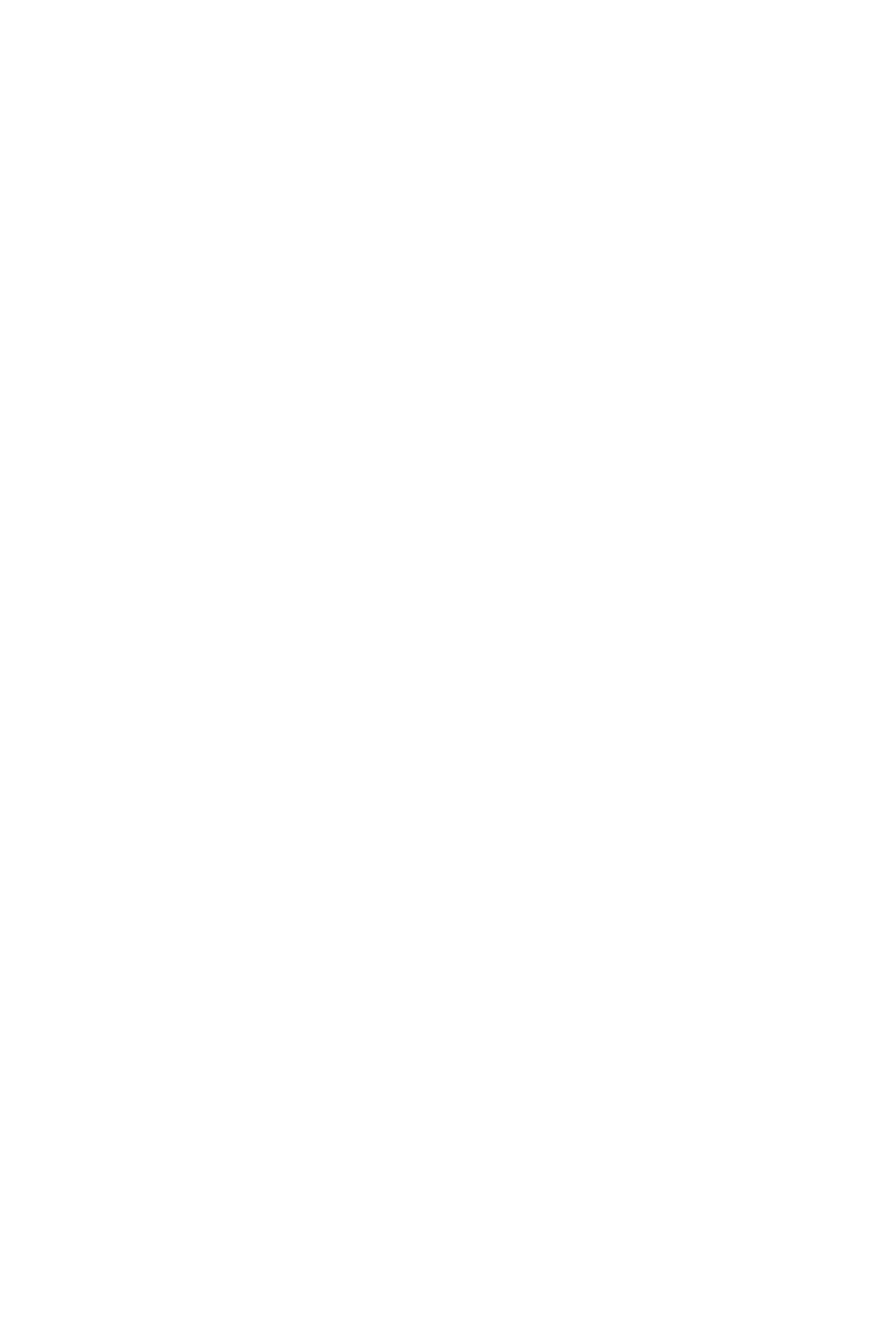
Чтобы запустить сети к современному жилому комплексу, нужно сначала убрать все старое, а потом положить новое. Те же двухэтажки старые на ЧТЗ – «красные линии» не позволяют там действовать. Нужно объединить много-много участков, чтобы построить что-то более-менее современное.
Олег Лакницкий: Нет. И ему, и городу. Каждый чиновник, если он из бизнеса, все равно будет подтягивать халявные деньги, которыми распоряжается. Это человеческая натура. Поэтому Юревич делал для себя, но и людям давал. Не надо это недооценивать. Он строил дороги, какие-то пространства. Вот если человек встает на чиновничью должность и думает исключительно о деньгах, все рушится.
Петр Стебельский: Через этот этап нужно было пройти Челябинску. Юревич работал в трендах, которые поддерживали люди. Когда он дороги расширил, все же в ладоши хлопали! Появился проект «Паркового» – тоже. Студия стоила 990 тысяч или около того. И с этого момента начала загнивать архитектура. Пошла игра на понижение цены и все порушила. В таких условиях не может быть никакой комфортной городской среды.
Василий Курбацких: Наверное, надо начинать с того, чтобы бизнесмены, которые здесь выросли и заработали деньги, разговаривали бы со своими детьми и учили их любить место, давшее жизнь и все, кем они являются. Иначе дети, не научившись любить свою деревню, город, пойдут с этим дальше, куда бы ни уехали – в Москву, Чехию, Америку. Надо закладывать в детях внутреннюю потребность менять мир вокруг, чтобы они по-другому не могли.
Олег Лакницкий: Надо! Если ты человек нормальный, ты и детей воспитаешь как полагается. А если тебе самому все до балды и пополам, такие и дети будут. Хорошо бы сначала себе в башку вдолбить. Не будем забывать, основная масса – это простой народ. С ним работает система, государство. Куда оно пойдет, туда и мы, как стадо.
Василий Курбацких: Олег, думаю, если собрать вас и человек пять таких, как вы, этого будет достаточно, чтобы Челябинск развернуть. И никого не нужно – ни государства, ни даже мэрии. Я за свои деньги «Аркаим Плаза» построил и сказал в интервью: «Давайте каждый, кто может, построит по красивому зданию, и Челябинск преобразится». Вопрос пяти-десяти лет. При ваших объемах можно показать пример. Сесть и сказать: «Хочу строить офигенно». Денег вы точно заработаете больше в разы, и слава вам будет, и почет, и дети научатся у вас.
Дмитрий Воронков: Если соберетесь строить, я вам растения поставлю по самой низкой стоимости))
Василий Курбацких: Как-то незаметно в Челябинске случилось одно событие – мы получили поддержку проекта по объединению университетов…
Павел Крутолапов: Просто никто пока не понял, что произошло.
Василий Курбацких: Мы подготовили заявку по кампусной политике на создание вуза мирового класса – Челябинского университета. Он станет крупнейшим в России после Высшей школы экономики. По проекту ЮУрГУ и ЧелГУ объединятся. Произойдет трансформация территории Южно-Уральского госуниверситета. Позади главного здания, если кто там учился, знают, есть площадка. По проекту она накрывается куполом, внутри появляется общегородское пространство. Алое поле превращается в офигенный сад, который выйдет на набережную Миасса. Пойма реки не одевается в гранит, как в Санкт-Петербурге, глупость это, а тоже становится экосистемой и, условно, национальным парком площадью полторы тысячи гектаров. Через наш сосновый бор ЧелГУ и ЮУрГУ свяжет замечательная детская железная дорога, а сам он превратится в открытую эколабораторию по научным исследованиям в области влияния человека на бор и бора на человека. Такая подача абсолютно соответствует мировому тренду. Фантастическая идея! Визуализацией занимался Павел Крутолапов, с ним работала небольшая, но хорошая команда. И проект получил поддержку сегодня. У меня есть мечта, что через пять лет в Челябинск будут ездить на экскурсии, чтобы посмотреть, что мы сделали, как город проник в университет, а университет в город.
Все произошло незаметно, потому что сначала губернатор обратился за поддержкой к президенту страны и получил ее, а следом к нам приехала Елена Шмелева и на всю Россию сказала, что это круто, классно. И это действительно так.
Елена Тельпиз: Чтобы все стало возможным, к процессу должны подключиться и бизнес, и власть. У нас в системе KPI губернатора есть разные показатели, начиная с его публичности в медиасреде и заканчивая лояльностью и посещаемостью выборов. Но нет, например, науки, на которую направлен ваш проект. А чтобы еще вы бы включили в KPI губернатора?
Денис Ни: Положительную динамику стоимости квадратного метра. Это интегральный показатель, который отражает все.
Екатерина Цветкова: Согласна.
Денис Ни: Если растет цена на квадратный метр, значит, растет население и так далее. А каждому жителю Челябинска цена его метра – прямая, адресная помощь. Если бы завтра я баллотировался в мэры, то пообещал бы рост капитализации недвижимости в Челябинске в два раза. Приду я, условно, ваша панелька стоит 45 тысяч за квадратный метр, а уйду через пять лет – 90.
Петр Стебельский: Через этот этап нужно было пройти Челябинску. Юревич работал в трендах, которые поддерживали люди. Когда он дороги расширил, все же в ладоши хлопали! Появился проект «Паркового» – тоже. Студия стоила 990 тысяч или около того. И с этого момента начала загнивать архитектура. Пошла игра на понижение цены и все порушила. В таких условиях не может быть никакой комфортной городской среды.
Василий Курбацких: Наверное, надо начинать с того, чтобы бизнесмены, которые здесь выросли и заработали деньги, разговаривали бы со своими детьми и учили их любить место, давшее жизнь и все, кем они являются. Иначе дети, не научившись любить свою деревню, город, пойдут с этим дальше, куда бы ни уехали – в Москву, Чехию, Америку. Надо закладывать в детях внутреннюю потребность менять мир вокруг, чтобы они по-другому не могли.
Олег Лакницкий: Надо! Если ты человек нормальный, ты и детей воспитаешь как полагается. А если тебе самому все до балды и пополам, такие и дети будут. Хорошо бы сначала себе в башку вдолбить. Не будем забывать, основная масса – это простой народ. С ним работает система, государство. Куда оно пойдет, туда и мы, как стадо.
Василий Курбацких: Олег, думаю, если собрать вас и человек пять таких, как вы, этого будет достаточно, чтобы Челябинск развернуть. И никого не нужно – ни государства, ни даже мэрии. Я за свои деньги «Аркаим Плаза» построил и сказал в интервью: «Давайте каждый, кто может, построит по красивому зданию, и Челябинск преобразится». Вопрос пяти-десяти лет. При ваших объемах можно показать пример. Сесть и сказать: «Хочу строить офигенно». Денег вы точно заработаете больше в разы, и слава вам будет, и почет, и дети научатся у вас.
Дмитрий Воронков: Если соберетесь строить, я вам растения поставлю по самой низкой стоимости))
Василий Курбацких: Как-то незаметно в Челябинске случилось одно событие – мы получили поддержку проекта по объединению университетов…
Павел Крутолапов: Просто никто пока не понял, что произошло.
Василий Курбацких: Мы подготовили заявку по кампусной политике на создание вуза мирового класса – Челябинского университета. Он станет крупнейшим в России после Высшей школы экономики. По проекту ЮУрГУ и ЧелГУ объединятся. Произойдет трансформация территории Южно-Уральского госуниверситета. Позади главного здания, если кто там учился, знают, есть площадка. По проекту она накрывается куполом, внутри появляется общегородское пространство. Алое поле превращается в офигенный сад, который выйдет на набережную Миасса. Пойма реки не одевается в гранит, как в Санкт-Петербурге, глупость это, а тоже становится экосистемой и, условно, национальным парком площадью полторы тысячи гектаров. Через наш сосновый бор ЧелГУ и ЮУрГУ свяжет замечательная детская железная дорога, а сам он превратится в открытую эколабораторию по научным исследованиям в области влияния человека на бор и бора на человека. Такая подача абсолютно соответствует мировому тренду. Фантастическая идея! Визуализацией занимался Павел Крутолапов, с ним работала небольшая, но хорошая команда. И проект получил поддержку сегодня. У меня есть мечта, что через пять лет в Челябинск будут ездить на экскурсии, чтобы посмотреть, что мы сделали, как город проник в университет, а университет в город.
Все произошло незаметно, потому что сначала губернатор обратился за поддержкой к президенту страны и получил ее, а следом к нам приехала Елена Шмелева и на всю Россию сказала, что это круто, классно. И это действительно так.
Елена Тельпиз: Чтобы все стало возможным, к процессу должны подключиться и бизнес, и власть. У нас в системе KPI губернатора есть разные показатели, начиная с его публичности в медиасреде и заканчивая лояльностью и посещаемостью выборов. Но нет, например, науки, на которую направлен ваш проект. А чтобы еще вы бы включили в KPI губернатора?
Денис Ни: Положительную динамику стоимости квадратного метра. Это интегральный показатель, который отражает все.
Екатерина Цветкова: Согласна.
Денис Ни: Если растет цена на квадратный метр, значит, растет население и так далее. А каждому жителю Челябинска цена его метра – прямая, адресная помощь. Если бы завтра я баллотировался в мэры, то пообещал бы рост капитализации недвижимости в Челябинске в два раза. Приду я, условно, ваша панелька стоит 45 тысяч за квадратный метр, а уйду через пять лет – 90.
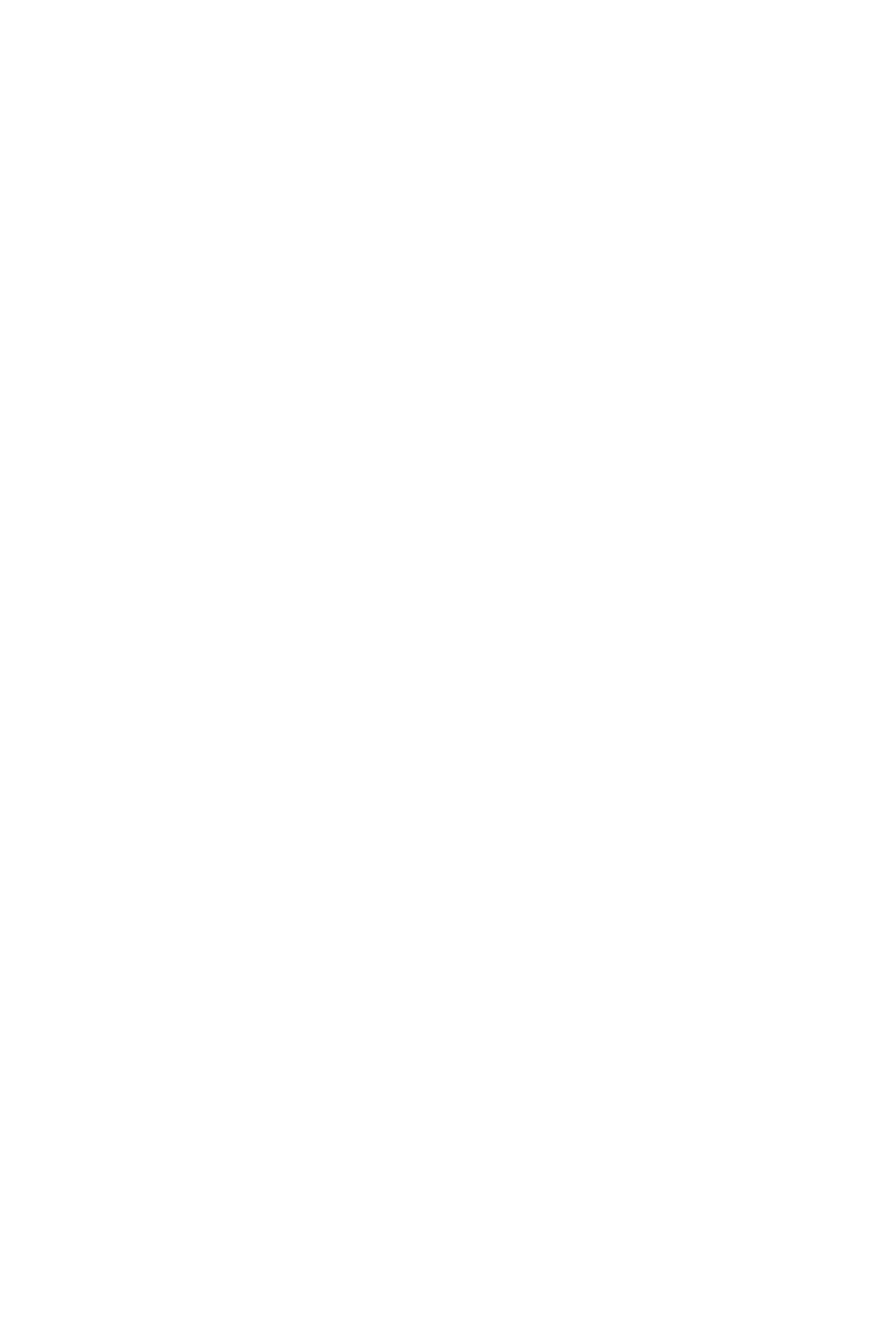
Есть крупный застройщик, к которому мы пришли и предложили: «Давайте благоустроим территорию красиво». На что нам ответили: «Ну, красиво я сделаю дом, а вы дайте цену на самый дешевый зеленый материал, я его воткну – и нормально». Честно говоря, хочется, чтобы такого не было. Это та инфраструктура, в которую люди заходят и живут с ней рядом.
Анна Шипина: А людям, которые хотят купить, а не продать жилье, интереснее, чтобы оно стоило дешевле.
Петр Стебельский: Предвыборная кампания рухнула бы, скорее всего. Потому что в этом вопросе важно понимать, сколько человек заинтересованы в росте капитализации недвижимости, а скольким нужно просто купить что-нибудь подешевле и в ипотеку.
Василий Курбацких: Я Дениса полностью поддерживаю. На самом деле Челябинск – город рантье, мы давно никакие не металлурги. И человеку, который выйдет и скажет: «Все ваше будет стоить дороже в два раза», прокричат: «Ура!»
Петр Стебельский: Но коэффициент нужен более сложный. Взять Республику Марий Эл: жилье дорогое, а жить там никто не хочет. Поэтому и покупательская способность должна быть высокая.
Денис Ни: Пока нет дорог, медицины, образования, экологии, благоустройства, ничего этого – на капитализацию недвижимости трудно повлиять.
Василий Курбацких: У нас в принципе осталась какая-то территория, чтобы создавать комфортный город? Я езжу, смотрю. Единственное – университетская набережная, если двигаться из центра – с левой стороны. Других значимых территорий для застройки нет. Провинциальность Челябинска заключается еще и в том, что люди сидят и ждут, когда рядом с их участками появятся хорошие проекты и цена на их землю вырастет. Они никуда не спешат, им есть на что жить, а город увядает, политическая воля отсутствует. Я вам скажу как москвич, который любит этот город: у тех, кто будет строить на последних участках, есть последний шанс построить что-то действительно стоящее. Анна, у вас же осталась земля под застройку на берегу Миасса, вдоль реки? Там можно сделать уголок европейского города с красивой набережной. Алексею привет!
Анна Шипина: Передам))
Василий Курбацких: Передайте еще: Василий сказал, если он вот так застроит – станет великим. Уйдите «вниз» – в среднеэтажку, получится квартальчик а-ля Замоскворечье. Строить чуть-чуть посложнее будет, с фасадами поработать придется. Зато это будет выгодно для вас с точки зрения цены. Создадите конкуренцию L-Town! И город украсите))
Петр Стебельский: Предвыборная кампания рухнула бы, скорее всего. Потому что в этом вопросе важно понимать, сколько человек заинтересованы в росте капитализации недвижимости, а скольким нужно просто купить что-нибудь подешевле и в ипотеку.
Василий Курбацких: Я Дениса полностью поддерживаю. На самом деле Челябинск – город рантье, мы давно никакие не металлурги. И человеку, который выйдет и скажет: «Все ваше будет стоить дороже в два раза», прокричат: «Ура!»
Петр Стебельский: Но коэффициент нужен более сложный. Взять Республику Марий Эл: жилье дорогое, а жить там никто не хочет. Поэтому и покупательская способность должна быть высокая.
Денис Ни: Пока нет дорог, медицины, образования, экологии, благоустройства, ничего этого – на капитализацию недвижимости трудно повлиять.
Василий Курбацких: У нас в принципе осталась какая-то территория, чтобы создавать комфортный город? Я езжу, смотрю. Единственное – университетская набережная, если двигаться из центра – с левой стороны. Других значимых территорий для застройки нет. Провинциальность Челябинска заключается еще и в том, что люди сидят и ждут, когда рядом с их участками появятся хорошие проекты и цена на их землю вырастет. Они никуда не спешат, им есть на что жить, а город увядает, политическая воля отсутствует. Я вам скажу как москвич, который любит этот город: у тех, кто будет строить на последних участках, есть последний шанс построить что-то действительно стоящее. Анна, у вас же осталась земля под застройку на берегу Миасса, вдоль реки? Там можно сделать уголок европейского города с красивой набережной. Алексею привет!
Анна Шипина: Передам))
Василий Курбацких: Передайте еще: Василий сказал, если он вот так застроит – станет великим. Уйдите «вниз» – в среднеэтажку, получится квартальчик а-ля Замоскворечье. Строить чуть-чуть посложнее будет, с фасадами поработать придется. Зато это будет выгодно для вас с точки зрения цены. Создадите конкуренцию L-Town! И город украсите))
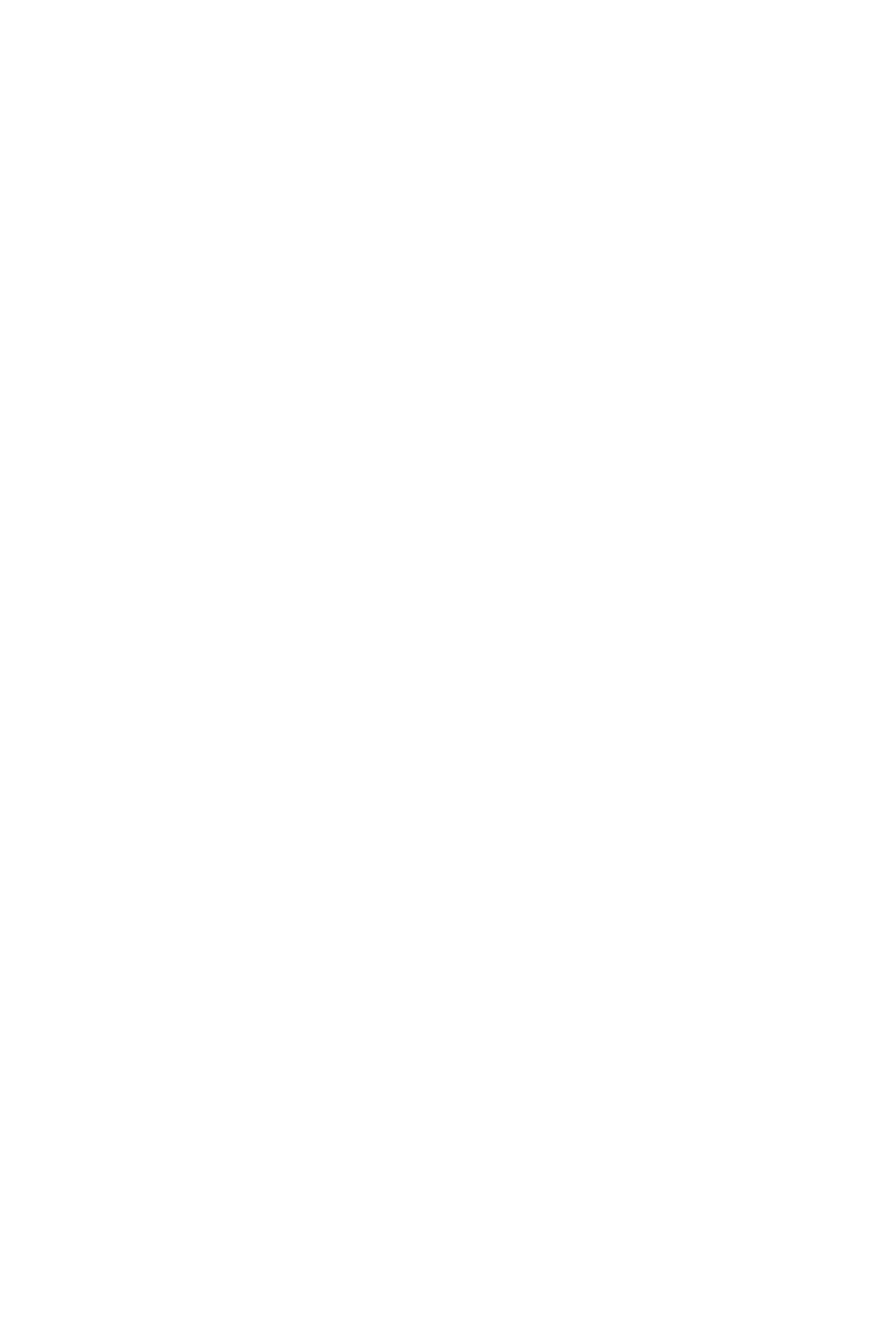
Я специально съездил в Казань посмотреть Иннополис. В части организации строительства, непрерывности финансирования и государственного подхода – пять баллов. Но результат, если сказать мягко, никак не соответствует стандартам современной урбанистики… Я видел сорок лучших проектов Европы. Нам нужно брать пример не с Казани, тем более не с Екатеринбурга. Надо использовать мировой опыт, который абсолютно известен, и решать вопросы прежде всего законодательные.
– Часто видим, как люди засматриваются с восторгом на то, «как сделано в Екатеринбурге». Чего не хватает Челябинску – денег или компетенций для создания оригинальных, меняющих облик города проектов?
Сергей Пахомов: У Челябинска базово все есть и всего хватает. Просто в разных городах все происходит в разное время, и развитие определяет совокупность факторов. В каких-то городах, которые даже меньше Екатеринбурга, это зачастую позиция властей, которые благоустраивают город к каким-либо событиям: чемпионатам мира, саммитам и так далее. Екатеринбург в этом смысле не исключение. Там очень большой рывок был сделан, когда готовились к саммиту ШОС, после этого Чемпионат мира по футболу, сейчас будет Универсиада. То есть так или иначе это те мероприятия, которые подразумевают вложения в инфраструктуру и активные инвестиции. С другой стороны – это конкуренция среди застройщиков, которые вынуждены конкурировать за потребителя, улучшать продукт. Именно по совокупности причин получается так, что город выходит на определенный уровень, ниже которого сложно опуститься, и дальше это уже самоподдерживающаяся история.
Если смотреть на наш регион, мы не избалованы вниманием каких-либо федеральных грантов и проектов. И сейчас, на мой взгляд, «законодателями моды» в благоустройстве являются именно городские власти, облагораживая скверы, набережную. Так же и среди застройщиков появляется желание делать более интересный продукт и конкурировать за потребителя. И у потребителя возникает желание приобретать нечто другого качества, потому что он видит примеры других городов. И когда потребности в новом уровне среды возникают у каждой группы, происходит переход на новое качество. И мне кажется, что Челябинск уже близок к тому, чтобы определенные стандарты укоренились и мы начали мыслить категориями урбанизма.
Сергей Пахомов: У Челябинска базово все есть и всего хватает. Просто в разных городах все происходит в разное время, и развитие определяет совокупность факторов. В каких-то городах, которые даже меньше Екатеринбурга, это зачастую позиция властей, которые благоустраивают город к каким-либо событиям: чемпионатам мира, саммитам и так далее. Екатеринбург в этом смысле не исключение. Там очень большой рывок был сделан, когда готовились к саммиту ШОС, после этого Чемпионат мира по футболу, сейчас будет Универсиада. То есть так или иначе это те мероприятия, которые подразумевают вложения в инфраструктуру и активные инвестиции. С другой стороны – это конкуренция среди застройщиков, которые вынуждены конкурировать за потребителя, улучшать продукт. Именно по совокупности причин получается так, что город выходит на определенный уровень, ниже которого сложно опуститься, и дальше это уже самоподдерживающаяся история.
Если смотреть на наш регион, мы не избалованы вниманием каких-либо федеральных грантов и проектов. И сейчас, на мой взгляд, «законодателями моды» в благоустройстве являются именно городские власти, облагораживая скверы, набережную. Так же и среди застройщиков появляется желание делать более интересный продукт и конкурировать за потребителя. И у потребителя возникает желание приобретать нечто другого качества, потому что он видит примеры других городов. И когда потребности в новом уровне среды возникают у каждой группы, происходит переход на новое качество. И мне кажется, что Челябинск уже близок к тому, чтобы определенные стандарты укоренились и мы начали мыслить категориями урбанизма.
