Текст: Елена Пылаева
Фото: Иван Карлышев
Фото: Иван Карлышев
НАУЧНЫЙ ОПТИМИЗМ
Накануне 2021 года, который объявлен годом науки и технологий, портал «Научная Россия» провел опрос среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. 50,2 % респондентов назвали ситуацию в науке мрачной, отметив: надежды на то, что в ближайшее время она изменится к лучшему, мало. Александр Шестаков, ректор Южно-Уральского госуниверситета, мнение коллег не разделяет: «Безусловно, мы отстаем от Запада, но не критично. И мы быстро учимся». Uno узнал, на каких основаниях строится оптимизм Шестакова.
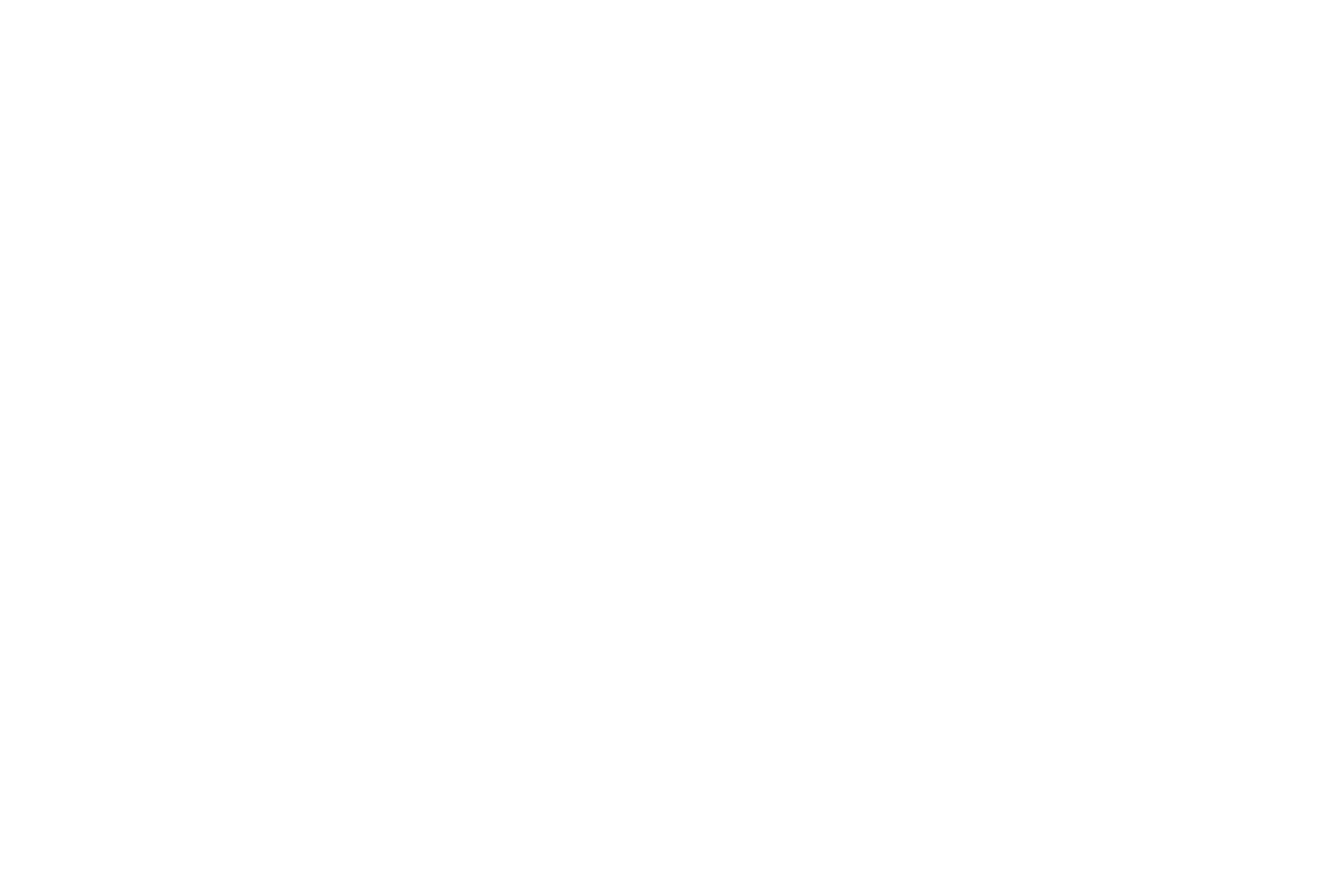
Александр Шестаков
ректор Южно-Уральского госуниверситета
ректор Южно-Уральского госуниверситета
– Александр Леонидович, внутри вашего университета – десять институтов. А сколько кафедр?
– Порядка девяноста. Я ставлю задачу восстановить систему, которая существовала в ЮУрГУ во времена Советского Союза, но адаптировать ее к новым условиям. В 2000 году Герман Платонович Вяткин, бывший ректор, почувствовал, что суперкомпьютинг может стать следующим направлением развития нашего университета. Сначала мы создали маленький кластер из восьми процессоров. Он рос, становился все больше и больше. Сейчас у нас шестая версия суперкомпьютера. С ним целая история развернулась. Рассказать?
– Расскажите))
– Когда мы занялись суперкомпьютерами, к нам приехали из института программных систем РАН и российского отделения компании Intel, мирового производителя процессоров. Руководитель Intel говорит: «Давайте сделаем не просто суперкомпьютер, а с полностью водяным охлаждением!» Мы два дня семинарим (я оканчивал приборостроительный факультет, и пускай не электронщик, но кое-что в этом деле понимаю), они отвечают на все вопросы, которые я задаю. В итоге предлагают: «Найдите сорок миллионов на проект, и мы дадим еще сорок». Что только про меня не писали средства массовой информации! И что взятку взял, и что стал подопытным кроликом, над которым ставят эксперимент. Прошло время. Мы запустили суперкомпьютер. На него посмотрели Intel и компания РСК, ведущий российский производитель суперкомпьютеров, и пригласили в Гамбург – на суперкомпьютерную выставку. В итоге первое место тогда заняла фирма из Японии Fujitsu. Но что интересно: суперкомпьютеры состоят из узлов, как здание из кирпичиков, и наши узлы оказались в полтора раза меньше японских, причем с теми же возможностями. Это был шок! Все считали, что российская электроника отстала, и навсегда, а тут такой результат.
Потом для Intel на нашем суперкомпьютере мы решили задачу инженерного плана, за что компания дала нам беспрецедентную скидку на новые узлы. Благодаря ей мы попали на 117-ю позицию в топ-500 суперкомпьютеров мира.
– А для каких прикладных задач можно использовать суперкомпьютер?
– Смотрели «Экипаж»? Ремейк фильма 1979 года. Компьютерная графика, все эти завиральные трюки делались в Челябинске, на нашем суперкомпьютере. Мы не такие простые ребята, как кажется на первый взгляд! Двигатель ПД-14 для самолетов МС-21 тоже считался у нас. Эту возможность мы предоставили Центральному институту авиационного моторостроения. Но есть еще и деятельность, связанная с наукой. Под суперкомпьютинг мы создали факультет вычислительной математики и информатики – по аналогии с тем, что в МГУ. Теперь готовим специалистов. Появились серьезные работы с упором на инженерные расчеты. Много работ связано с физикой, нанотехнологиями – они тоже стали возможны благодаря суперкомпьютеру. Уже видно, куда за 15–20 лет продвинулся эволюционный процесс: от моделирования мы перешли к цифровым двойникам объектов, дальше – к искусственному интеллекту. Потому что успех – это тяжелый, порой нудный труд в течение длительного времени. Но вектор должен быть правильным.
– Вы говорите, что сотрудничаете с институтом моторостроения. А контакт с производствами, бизнесом есть? Все-таки металлургия, которой славится Челябинск, наукоемкая.
– То, что компания Emerson осела здесь и построила глобальный высокотехнологичный инженерный центр, – опосредованный результат деятельности ЮУрГУ. В Emerson выбирали между Зеленоградом, Саратовом и Челябинском. Смотрели на университеты, науку. У меня было два дня, чтобы убедить сделать выбор в нашу пользу. Потому что таких экземпляров, как мы, в стране – по пальцам пересчитать. Теперь Emerson заложила вторую очередь завода. Это идеолог цифровой индустрии в мире. Мы дружим, воспринимаем идеи компании и пытаемся реализовать их, с одной стороны, в масштабах области, а с другой – шире. Если выиграем с проектом «Приоритет-2030», думаю, выйдем на всероссийский масштаб.
– Вы еще, кажется, сотрудничаете с ММК?
– Да, и в связи с этим могу рассказать другой анекдот из жизни. Немецкая компания SMS Group вам знакома? Мировой лидер в области металлургического оборудования. В то время ее руководителем был Пино Тезе. Как-то генеральный директор ММК проводил совещание, на котором Пино сказал: «Сейчас мы вам все технологические процессы сделаем под идеологию цифровой индустрии». Я это услышал и предложил Пино работать вместе. SMS Group начала нас тестировать. На линии непрерывной разливки стали есть такая штука – кристаллизатор. Металл проходит через него и меняет свою структуру. Так вот, в этом месте часто возникают засоры. В SMS Group наклеили на кристаллизатор 540 датчиков температуры (немцы – ребята тщательные), сняли данные и выслали нам десять флешек с информацией: «Определите, что внутри кристаллизатора». Мы в университете организовали конкурс, набрали четыре команды. Еще две флешки отдали Магнитогорскому техническому университету. Другие две сама компания передала немецким университетам. Четыре месяца проходило тестирование команд, после чего SMS Group подводила итоги. Первое место заняла наша команда, она работала на основе методов нейросетевых технологий и получила 50 баллов. Второе, с 36 баллами, – тоже наша, по традиционному методу. Немецкий университет стал третьим – 32 балла. Это был шок и для нас, и для Пино. Сейчас с SMS Group у нас разворачивается деятельность в цифровой индустрии. Направлений три: прокатное производство, плавильное и сервисы. В реальном времени мы будем оценивать состояние оборудования и качество процесса в нем. Знаете, как кардиомонитор вешают на шею человека, чтобы следить за сердечно-сосудистой системой? Так и мы станем вешать датчики, снимать информацию и анализировать ее. Это серьезная история и масштаб, достойный международного уровня. Считается, что пока обрабатывают лишь 5 % данных, получаемых с оборудования. Если довести значение до 75 %, то технологические процессы и управление ими изменятся радикальным образом.
– По данным РАН, доля реального сектора экономики в финансировании науки составляет около трети. Остальное дает бюджет. У ЮУрГУ есть бизнес-партнеры. Являются ли эти цифры корректными для вас?
– Нас реальный сектор финансирует в большей мере, чем вы сказали. Но грех жаловаться и на поддержку федеральной власти. Сегодня государство вкладывается в победителей крупных проектов. В 2007 году мы выиграли нацпроект «Образование» и получили 750 миллионов рублей. Еще почти два миллиарда – на развитие исследовательского университета. В обоих случаях деньги пошли на расширение научной базы.
– В каком объеме оказывают помощь компании вроде Emerson и ММК?
– В лабораторию цифровой индустрии Emerson вложила 600 тысяч долларов – нехило, хотя они умеют считать деньги. Когда уходил бывший президент компании, директор «Метрана», их партнер, сказал: «Emerson поддерживает два университета в мире: свой, в Америке, и почему-то ваш». С ММК идут переговоры о создании инженерного центра. У нас есть совместные работы по энергосбережению в металлургическом производстве. Сейчас готовим пилотный проект – будем оценивать состояние прокатного оборудования, используя метод искусственного интеллекта. Для этого в ММК нам, чтобы порезвиться, дали целый прокатный цех! И денег тоже дали. Пусть мы заработаем не так много, зато получим опыт, который применим в будущем.
– Какие вы видите стимулы для бизнеса вкладываться в науку больше? Как его можно мотивировать?
– В Emerson подготовили статью, где все промышленные предприятия разделили на четыре квартиля. В первый попали те, кто понимает важность цифровой индустрии и применяет ее достижения. Во второй и третий – кто делает это меньше и меньше. Четвертые – игнорируют. В Emerson говорят, что предприятия из первого квартиля конкурентоспособны, а те, что в четвертом, исчезнут.
Россия всегда отстает от тенденции. Я знаю только один пример – ММК, у которого существует программа цифровой индустрии до 2025 года. Хотелось бы, чтобы и к остальным понимание пришло, и наши идеи и результаты, которые мы имеем, воспринимались более широко. Есть мысль – в перспективе создать экспертный совет из специалистов в области металлургии, ученых высокого уровня, представителей областной администрации, где бы мы обсуждали задачи, которые стоят и которые, возможно, не все видят, способы их решения и тиражирование тех решений, что уже нашли.
– Прочитала интервью с Виктором Садовничевым, ректором МГУ. Его университет начинает строительство научно-технологической долины «Воробьевы горы». Основная цель – создавать новые технологии на базе фундаментальных исследований и привлекать средства на запланированные и уже реализуемые проекты. Челябинску есть чем ответить?
– Да, мы будем писать заявку на аналогичную долину и инновационно-технологический центр все по тому же направлению – искусственный интеллект в индустрии. У нас с Василием Курбацких есть замечательный проект, по которому этот центр должен появиться в L-Town. Идея роскошная, правильная, поскольку там будет возможна синергия образования, науки и высокотехнологичного бизнеса. В программе развития кампуса осуществить наш замысел невозможно, так как территория L-Town за городской чертой, и проект не проходит по условиям гранта. Нужно писать еще одну заявку. Меня обвиняют в корыстном интересе, но я искренне считаю, что идеальное место под реализацию мы уже нашли.
– Власть оценивает работу губернаторов по ключевым показателям эффективности, так называемым KPI. Но среди них нет оценки уровня науки, образования, внедрения новых технологий в регионе. Как считаете, надо внести их в список KPI?
– Я не знаю, надо или нет, но если мы хотим чего-то добиться, сделать это без активной поддержки губернатора невозможно. Пока то, куда мы шли, было движением в никуда. Рядом с нами Екатеринбург. Там есть федеральный университет, двадцать институтов Академии наук, там культурный центр. И чтобы остаться конкурентоспособными, ключевым элементом развития Челябинска должен стать научно-образовательный центр мирового уровня. Вот к чему мы стремимся, и это главное средство в конкурентной борьбе между регионами, я считаю.
– В прошлом интервью вы отметили, что области нужен шестой технологический уклад. Его можно обеспечить только развитием университетов, образования и науки. Есть ли сдвиги в этом направлении?
– К сожалению, сказать, что мы сильно продвинулись, не могу. Но если выиграем в новой программе «Приоритет-2030», можно считать, что шаг в нужную сторону сделаем.
– Расскажете, в чем суть проекта, с которым вы заявились в программу?
– Пока рано. Прежде мы защитим его дважды: на базовый грант в сентябре и на второй – в октябре. Но то, что я уже говорил о цифровой индустрии, будет в нем отражено. ЮУрГУ стоит на пороге нового этапа развития. Так сложилось, что в Челябинске нет академических институтов. Мы здесь главное научное учреждение. Самая сильная математика вся у нас, химия и физика тоже.
– Преподавателей переманиваете?))
– Я не мягкий и пушистый и живу в конкурентной среде. Не переманиваю, но привлекаю. Ко мне и сами приходят, а я решаю, брать или нет. Была история с академиком РАН, математиком, в то время я как раз начинал развивать мехмат. Собрал на него информацию. Оказалось, он не подготовил ни одного доктора наук. За все время у него было 12–13 кандидатов. У меня и то десять! Зачем мне такой? Не взял.
– Как строится ваша конкурентная борьба с другими вузами?
– Руперт Мердок сказал: «Я не делаю деньги. Стань лучшим в своей области, и тогда к тебе придут и власть, и состояние». Верный принцип. Мы хотим стать лучшими в своей области.
– С 1 сентября вступил в силу закон об аспирантуре. Теперь без диссертации невозможно получить диплом об ее окончании…
– И правильно. Несколько лет назад мы пошли по западному пути. Загнали в аспирантуру кучу курсов, а защиту диссертации сделали необязательной. Это не сработало, и сейчас поворачиваем вспять. Все-таки основной результат аспирантуры – это диссертация.
– Написать и защитить научный труд можно только, если тебя не отвлекает ничто другое. Аспиранты, как правило, работают. И большинство – не по профилю. Их стипендии будут расти?
– У нас – будут. Мы заходим в еще один стратегический проект, кстати, крутой и финансирование аспирантов станем вести из нескольких источников. Но чтобы зарабатывать, придется выполнить условие – заниматься направлениями, перспективными для университета, и стратегическими проектами.
– Было бы странно не спросить про последствия года на дистанте. Как он повлиял на качество знаний?
– Не сильно, потому что у нас больше десяти лет существует институт дистанционного образования. Мы создавали его, не подозревая, что однажды массово перейдем на удаленное обучение. Тем не менее еще до карантина больше пятисот преподавателей прошли подготовку для работы на дистанте. Я лично выслушал пять лучших итоговых докладов – они были блестящими. Мы разработали регламент для онлайн-лекций и семинаров. Они проходят с обязательной обратной связью от студентов, чтобы мы понимали, как материал ими усваивается. Единственное, пока не очень получилось увязать дистант с лабораторными работами, причем не получилось ни у кого. Мы открыли вторую студию, чтобы создавать виртуальные лабораторные. При этом у нас уже есть курс с дополненной реальностью именно для удаленного обучения. В нем восемьсот симуляторов разных видов деятельности – думаю, в этом вопросе мы лидеры в нашей стране.
Что плохо в дистанте – не происходит общения студентов и преподавателей. Между тем даже в разговорах не по предмету, на более широкие темы заложен сильный воспитательный эффект. Георгий Севирович Черноруцкий, которого я считаю своим учителем, читал великолепные, понятные лекции при сложнейшем математизированном материале. И я видел, насколько глубоко он погружен в предмет, что он очень большой человек.
– Сейчас в ЮУрГУ остались преподаватели, которых можно назвать Учителями?
– Конечно! Но на этот вопрос вам лучше ответили бы сами студенты, а я могу вспомнить о своих Учителях. Как уже сказал, это Черноруцкий, специалист в области систем автоматического управления, основатель приборостроительного университета. Я был у него студентом, аспирантом, докторантом. На кафедре в то время действовала лаборатория из семидесяти человек (и таких проблемных отраслевых лабораторий в университете было двенадцать), направление – испытательные стенды для элементов и систем управления ракет разного класса. Последняя наша работа, на которой я, молодой кандидат наук, был ответственным исполнителем, – это наземный комплекс для системы управления «Бураном», космическим кораблем. Он делался здесь, в Челябинске.
С точки зрения административного управления мой учитель – Вяткин, бывший ректор, потом президент университета. Я учился у него менеджменту, когда «зашел» в ректорат. Мне пришлось пройти годичный курс эффективного менеджмента в Открытом университете Великобритании. А сейчас?.. ну, конечно, тоже работают люди, которые занимаются глубокой наукой и доступно рассказывают, доходчиво преподают свой предмет. Чем выше твой научный уровень, тем лучше ты подаешь материал студентам.
– Закончили обучение первокурсники, которые поступили год назад после непонятно сданного дистанционного ЕГЭ. Какие результаты показали они?
– Примерно такие же, как до карантина. Мы ежегодно анализируем итоги первой и второй сессии. От раза к разу они только лучше. О чем это говорит? С одной стороны, что система ЕГЭ не испортила абитуриента. С другой – что у университета получается стимулировать студентов. У нас действует балльно-рейтинговая система. Да, студент пищит, она ему не нравится, потому что приходится быть включенным в учебу в течение всего учебного года, а не от сессии к сессии.
– Каких прорывных открытий ожидать от ЮУрГУ в 2022 году?
– Мы начали заниматься квантовыми технологиями. Будущее за ними. В планах – создать соответствующую лабораторию и развивать три направления: квантовые сенсоры, квантовую метрологию и квантовые вычисления. У нас есть люди, которые диссертации по этим темам защитили за рубежом и вернулись в университет. Конечно, в 2022 году мы еще не сделаем серьезных открытий, но двигаться в эту сторону начнем. Многим непонятно: «Зачем ЮУрГу туда лезет?» А зачем лезли в суперкомпьютеры в 2000 году? Мы смотрим вперед. В ближайшие годы сконцентрируемся на создании сенсоров, программных продуктов и интеллектуального производства, в первую очередь в металлургии и машиностроении. Плюс начали заниматься генетикой.
– Это уже на стыке биологии и искусственного интеллекта?
– Да. Мы открыли медико-биологическую школу, когда вошли в проект «5-100». Тогда нас тоже спрашивали, где Южно-Уральский госуниверситет с его инженерами – и где медицина и биология. Но мы создали условия, и к нам потянулись хорошие специалисты.
– Вы чувствуете тренд на ненужность фундаментальных знаний? За это «топят» многие. Уважаемый мной Герман Оскарович Греф больше говорит о навыках, нежели о знаниях. Появилось множество образовательных проектов, курсов, на которых за полгода-год можно освоить необходимые навыки и больше не учиться.
– Я не считаю этот тренд правильным. У российского инженерного образования две основы – его фундаментальность и практическая направленность. Благодаря им мы первыми полетели в космос, первыми запустили спутник, сделали многое другое. Мир меняется быстро. Сегодня мне нужны одни навыки, завтра другие, но без фундаментального образования мы не сможем создавать новую технику в этом изменяющемся мире. В нашем университете мы всегда придерживались такой позиции и будем придерживаться дальше.
– Порядка девяноста. Я ставлю задачу восстановить систему, которая существовала в ЮУрГУ во времена Советского Союза, но адаптировать ее к новым условиям. В 2000 году Герман Платонович Вяткин, бывший ректор, почувствовал, что суперкомпьютинг может стать следующим направлением развития нашего университета. Сначала мы создали маленький кластер из восьми процессоров. Он рос, становился все больше и больше. Сейчас у нас шестая версия суперкомпьютера. С ним целая история развернулась. Рассказать?
– Расскажите))
– Когда мы занялись суперкомпьютерами, к нам приехали из института программных систем РАН и российского отделения компании Intel, мирового производителя процессоров. Руководитель Intel говорит: «Давайте сделаем не просто суперкомпьютер, а с полностью водяным охлаждением!» Мы два дня семинарим (я оканчивал приборостроительный факультет, и пускай не электронщик, но кое-что в этом деле понимаю), они отвечают на все вопросы, которые я задаю. В итоге предлагают: «Найдите сорок миллионов на проект, и мы дадим еще сорок». Что только про меня не писали средства массовой информации! И что взятку взял, и что стал подопытным кроликом, над которым ставят эксперимент. Прошло время. Мы запустили суперкомпьютер. На него посмотрели Intel и компания РСК, ведущий российский производитель суперкомпьютеров, и пригласили в Гамбург – на суперкомпьютерную выставку. В итоге первое место тогда заняла фирма из Японии Fujitsu. Но что интересно: суперкомпьютеры состоят из узлов, как здание из кирпичиков, и наши узлы оказались в полтора раза меньше японских, причем с теми же возможностями. Это был шок! Все считали, что российская электроника отстала, и навсегда, а тут такой результат.
Потом для Intel на нашем суперкомпьютере мы решили задачу инженерного плана, за что компания дала нам беспрецедентную скидку на новые узлы. Благодаря ей мы попали на 117-ю позицию в топ-500 суперкомпьютеров мира.
– А для каких прикладных задач можно использовать суперкомпьютер?
– Смотрели «Экипаж»? Ремейк фильма 1979 года. Компьютерная графика, все эти завиральные трюки делались в Челябинске, на нашем суперкомпьютере. Мы не такие простые ребята, как кажется на первый взгляд! Двигатель ПД-14 для самолетов МС-21 тоже считался у нас. Эту возможность мы предоставили Центральному институту авиационного моторостроения. Но есть еще и деятельность, связанная с наукой. Под суперкомпьютинг мы создали факультет вычислительной математики и информатики – по аналогии с тем, что в МГУ. Теперь готовим специалистов. Появились серьезные работы с упором на инженерные расчеты. Много работ связано с физикой, нанотехнологиями – они тоже стали возможны благодаря суперкомпьютеру. Уже видно, куда за 15–20 лет продвинулся эволюционный процесс: от моделирования мы перешли к цифровым двойникам объектов, дальше – к искусственному интеллекту. Потому что успех – это тяжелый, порой нудный труд в течение длительного времени. Но вектор должен быть правильным.
– Вы говорите, что сотрудничаете с институтом моторостроения. А контакт с производствами, бизнесом есть? Все-таки металлургия, которой славится Челябинск, наукоемкая.
– То, что компания Emerson осела здесь и построила глобальный высокотехнологичный инженерный центр, – опосредованный результат деятельности ЮУрГУ. В Emerson выбирали между Зеленоградом, Саратовом и Челябинском. Смотрели на университеты, науку. У меня было два дня, чтобы убедить сделать выбор в нашу пользу. Потому что таких экземпляров, как мы, в стране – по пальцам пересчитать. Теперь Emerson заложила вторую очередь завода. Это идеолог цифровой индустрии в мире. Мы дружим, воспринимаем идеи компании и пытаемся реализовать их, с одной стороны, в масштабах области, а с другой – шире. Если выиграем с проектом «Приоритет-2030», думаю, выйдем на всероссийский масштаб.
– Вы еще, кажется, сотрудничаете с ММК?
– Да, и в связи с этим могу рассказать другой анекдот из жизни. Немецкая компания SMS Group вам знакома? Мировой лидер в области металлургического оборудования. В то время ее руководителем был Пино Тезе. Как-то генеральный директор ММК проводил совещание, на котором Пино сказал: «Сейчас мы вам все технологические процессы сделаем под идеологию цифровой индустрии». Я это услышал и предложил Пино работать вместе. SMS Group начала нас тестировать. На линии непрерывной разливки стали есть такая штука – кристаллизатор. Металл проходит через него и меняет свою структуру. Так вот, в этом месте часто возникают засоры. В SMS Group наклеили на кристаллизатор 540 датчиков температуры (немцы – ребята тщательные), сняли данные и выслали нам десять флешек с информацией: «Определите, что внутри кристаллизатора». Мы в университете организовали конкурс, набрали четыре команды. Еще две флешки отдали Магнитогорскому техническому университету. Другие две сама компания передала немецким университетам. Четыре месяца проходило тестирование команд, после чего SMS Group подводила итоги. Первое место заняла наша команда, она работала на основе методов нейросетевых технологий и получила 50 баллов. Второе, с 36 баллами, – тоже наша, по традиционному методу. Немецкий университет стал третьим – 32 балла. Это был шок и для нас, и для Пино. Сейчас с SMS Group у нас разворачивается деятельность в цифровой индустрии. Направлений три: прокатное производство, плавильное и сервисы. В реальном времени мы будем оценивать состояние оборудования и качество процесса в нем. Знаете, как кардиомонитор вешают на шею человека, чтобы следить за сердечно-сосудистой системой? Так и мы станем вешать датчики, снимать информацию и анализировать ее. Это серьезная история и масштаб, достойный международного уровня. Считается, что пока обрабатывают лишь 5 % данных, получаемых с оборудования. Если довести значение до 75 %, то технологические процессы и управление ими изменятся радикальным образом.
– По данным РАН, доля реального сектора экономики в финансировании науки составляет около трети. Остальное дает бюджет. У ЮУрГУ есть бизнес-партнеры. Являются ли эти цифры корректными для вас?
– Нас реальный сектор финансирует в большей мере, чем вы сказали. Но грех жаловаться и на поддержку федеральной власти. Сегодня государство вкладывается в победителей крупных проектов. В 2007 году мы выиграли нацпроект «Образование» и получили 750 миллионов рублей. Еще почти два миллиарда – на развитие исследовательского университета. В обоих случаях деньги пошли на расширение научной базы.
– В каком объеме оказывают помощь компании вроде Emerson и ММК?
– В лабораторию цифровой индустрии Emerson вложила 600 тысяч долларов – нехило, хотя они умеют считать деньги. Когда уходил бывший президент компании, директор «Метрана», их партнер, сказал: «Emerson поддерживает два университета в мире: свой, в Америке, и почему-то ваш». С ММК идут переговоры о создании инженерного центра. У нас есть совместные работы по энергосбережению в металлургическом производстве. Сейчас готовим пилотный проект – будем оценивать состояние прокатного оборудования, используя метод искусственного интеллекта. Для этого в ММК нам, чтобы порезвиться, дали целый прокатный цех! И денег тоже дали. Пусть мы заработаем не так много, зато получим опыт, который применим в будущем.
– Какие вы видите стимулы для бизнеса вкладываться в науку больше? Как его можно мотивировать?
– В Emerson подготовили статью, где все промышленные предприятия разделили на четыре квартиля. В первый попали те, кто понимает важность цифровой индустрии и применяет ее достижения. Во второй и третий – кто делает это меньше и меньше. Четвертые – игнорируют. В Emerson говорят, что предприятия из первого квартиля конкурентоспособны, а те, что в четвертом, исчезнут.
Россия всегда отстает от тенденции. Я знаю только один пример – ММК, у которого существует программа цифровой индустрии до 2025 года. Хотелось бы, чтобы и к остальным понимание пришло, и наши идеи и результаты, которые мы имеем, воспринимались более широко. Есть мысль – в перспективе создать экспертный совет из специалистов в области металлургии, ученых высокого уровня, представителей областной администрации, где бы мы обсуждали задачи, которые стоят и которые, возможно, не все видят, способы их решения и тиражирование тех решений, что уже нашли.
– Прочитала интервью с Виктором Садовничевым, ректором МГУ. Его университет начинает строительство научно-технологической долины «Воробьевы горы». Основная цель – создавать новые технологии на базе фундаментальных исследований и привлекать средства на запланированные и уже реализуемые проекты. Челябинску есть чем ответить?
– Да, мы будем писать заявку на аналогичную долину и инновационно-технологический центр все по тому же направлению – искусственный интеллект в индустрии. У нас с Василием Курбацких есть замечательный проект, по которому этот центр должен появиться в L-Town. Идея роскошная, правильная, поскольку там будет возможна синергия образования, науки и высокотехнологичного бизнеса. В программе развития кампуса осуществить наш замысел невозможно, так как территория L-Town за городской чертой, и проект не проходит по условиям гранта. Нужно писать еще одну заявку. Меня обвиняют в корыстном интересе, но я искренне считаю, что идеальное место под реализацию мы уже нашли.
– Власть оценивает работу губернаторов по ключевым показателям эффективности, так называемым KPI. Но среди них нет оценки уровня науки, образования, внедрения новых технологий в регионе. Как считаете, надо внести их в список KPI?
– Я не знаю, надо или нет, но если мы хотим чего-то добиться, сделать это без активной поддержки губернатора невозможно. Пока то, куда мы шли, было движением в никуда. Рядом с нами Екатеринбург. Там есть федеральный университет, двадцать институтов Академии наук, там культурный центр. И чтобы остаться конкурентоспособными, ключевым элементом развития Челябинска должен стать научно-образовательный центр мирового уровня. Вот к чему мы стремимся, и это главное средство в конкурентной борьбе между регионами, я считаю.
– В прошлом интервью вы отметили, что области нужен шестой технологический уклад. Его можно обеспечить только развитием университетов, образования и науки. Есть ли сдвиги в этом направлении?
– К сожалению, сказать, что мы сильно продвинулись, не могу. Но если выиграем в новой программе «Приоритет-2030», можно считать, что шаг в нужную сторону сделаем.
– Расскажете, в чем суть проекта, с которым вы заявились в программу?
– Пока рано. Прежде мы защитим его дважды: на базовый грант в сентябре и на второй – в октябре. Но то, что я уже говорил о цифровой индустрии, будет в нем отражено. ЮУрГУ стоит на пороге нового этапа развития. Так сложилось, что в Челябинске нет академических институтов. Мы здесь главное научное учреждение. Самая сильная математика вся у нас, химия и физика тоже.
– Преподавателей переманиваете?))
– Я не мягкий и пушистый и живу в конкурентной среде. Не переманиваю, но привлекаю. Ко мне и сами приходят, а я решаю, брать или нет. Была история с академиком РАН, математиком, в то время я как раз начинал развивать мехмат. Собрал на него информацию. Оказалось, он не подготовил ни одного доктора наук. За все время у него было 12–13 кандидатов. У меня и то десять! Зачем мне такой? Не взял.
– Как строится ваша конкурентная борьба с другими вузами?
– Руперт Мердок сказал: «Я не делаю деньги. Стань лучшим в своей области, и тогда к тебе придут и власть, и состояние». Верный принцип. Мы хотим стать лучшими в своей области.
– С 1 сентября вступил в силу закон об аспирантуре. Теперь без диссертации невозможно получить диплом об ее окончании…
– И правильно. Несколько лет назад мы пошли по западному пути. Загнали в аспирантуру кучу курсов, а защиту диссертации сделали необязательной. Это не сработало, и сейчас поворачиваем вспять. Все-таки основной результат аспирантуры – это диссертация.
– Написать и защитить научный труд можно только, если тебя не отвлекает ничто другое. Аспиранты, как правило, работают. И большинство – не по профилю. Их стипендии будут расти?
– У нас – будут. Мы заходим в еще один стратегический проект, кстати, крутой и финансирование аспирантов станем вести из нескольких источников. Но чтобы зарабатывать, придется выполнить условие – заниматься направлениями, перспективными для университета, и стратегическими проектами.
– Было бы странно не спросить про последствия года на дистанте. Как он повлиял на качество знаний?
– Не сильно, потому что у нас больше десяти лет существует институт дистанционного образования. Мы создавали его, не подозревая, что однажды массово перейдем на удаленное обучение. Тем не менее еще до карантина больше пятисот преподавателей прошли подготовку для работы на дистанте. Я лично выслушал пять лучших итоговых докладов – они были блестящими. Мы разработали регламент для онлайн-лекций и семинаров. Они проходят с обязательной обратной связью от студентов, чтобы мы понимали, как материал ими усваивается. Единственное, пока не очень получилось увязать дистант с лабораторными работами, причем не получилось ни у кого. Мы открыли вторую студию, чтобы создавать виртуальные лабораторные. При этом у нас уже есть курс с дополненной реальностью именно для удаленного обучения. В нем восемьсот симуляторов разных видов деятельности – думаю, в этом вопросе мы лидеры в нашей стране.
Что плохо в дистанте – не происходит общения студентов и преподавателей. Между тем даже в разговорах не по предмету, на более широкие темы заложен сильный воспитательный эффект. Георгий Севирович Черноруцкий, которого я считаю своим учителем, читал великолепные, понятные лекции при сложнейшем математизированном материале. И я видел, насколько глубоко он погружен в предмет, что он очень большой человек.
– Сейчас в ЮУрГУ остались преподаватели, которых можно назвать Учителями?
– Конечно! Но на этот вопрос вам лучше ответили бы сами студенты, а я могу вспомнить о своих Учителях. Как уже сказал, это Черноруцкий, специалист в области систем автоматического управления, основатель приборостроительного университета. Я был у него студентом, аспирантом, докторантом. На кафедре в то время действовала лаборатория из семидесяти человек (и таких проблемных отраслевых лабораторий в университете было двенадцать), направление – испытательные стенды для элементов и систем управления ракет разного класса. Последняя наша работа, на которой я, молодой кандидат наук, был ответственным исполнителем, – это наземный комплекс для системы управления «Бураном», космическим кораблем. Он делался здесь, в Челябинске.
С точки зрения административного управления мой учитель – Вяткин, бывший ректор, потом президент университета. Я учился у него менеджменту, когда «зашел» в ректорат. Мне пришлось пройти годичный курс эффективного менеджмента в Открытом университете Великобритании. А сейчас?.. ну, конечно, тоже работают люди, которые занимаются глубокой наукой и доступно рассказывают, доходчиво преподают свой предмет. Чем выше твой научный уровень, тем лучше ты подаешь материал студентам.
– Закончили обучение первокурсники, которые поступили год назад после непонятно сданного дистанционного ЕГЭ. Какие результаты показали они?
– Примерно такие же, как до карантина. Мы ежегодно анализируем итоги первой и второй сессии. От раза к разу они только лучше. О чем это говорит? С одной стороны, что система ЕГЭ не испортила абитуриента. С другой – что у университета получается стимулировать студентов. У нас действует балльно-рейтинговая система. Да, студент пищит, она ему не нравится, потому что приходится быть включенным в учебу в течение всего учебного года, а не от сессии к сессии.
– Каких прорывных открытий ожидать от ЮУрГУ в 2022 году?
– Мы начали заниматься квантовыми технологиями. Будущее за ними. В планах – создать соответствующую лабораторию и развивать три направления: квантовые сенсоры, квантовую метрологию и квантовые вычисления. У нас есть люди, которые диссертации по этим темам защитили за рубежом и вернулись в университет. Конечно, в 2022 году мы еще не сделаем серьезных открытий, но двигаться в эту сторону начнем. Многим непонятно: «Зачем ЮУрГу туда лезет?» А зачем лезли в суперкомпьютеры в 2000 году? Мы смотрим вперед. В ближайшие годы сконцентрируемся на создании сенсоров, программных продуктов и интеллектуального производства, в первую очередь в металлургии и машиностроении. Плюс начали заниматься генетикой.
– Это уже на стыке биологии и искусственного интеллекта?
– Да. Мы открыли медико-биологическую школу, когда вошли в проект «5-100». Тогда нас тоже спрашивали, где Южно-Уральский госуниверситет с его инженерами – и где медицина и биология. Но мы создали условия, и к нам потянулись хорошие специалисты.
– Вы чувствуете тренд на ненужность фундаментальных знаний? За это «топят» многие. Уважаемый мной Герман Оскарович Греф больше говорит о навыках, нежели о знаниях. Появилось множество образовательных проектов, курсов, на которых за полгода-год можно освоить необходимые навыки и больше не учиться.
– Я не считаю этот тренд правильным. У российского инженерного образования две основы – его фундаментальность и практическая направленность. Благодаря им мы первыми полетели в космос, первыми запустили спутник, сделали многое другое. Мир меняется быстро. Сегодня мне нужны одни навыки, завтра другие, но без фундаментального образования мы не сможем создавать новую технику в этом изменяющемся мире. В нашем университете мы всегда придерживались такой позиции и будем придерживаться дальше.
На втором этаже главного корпуса ЮУрГУ, что на проспекте Ленина, находится местный пантеон. Мраморными бюстами авторства Вардкеса Авакяна в университет вернулись люди, преподававшие здесь в прошлом. Правовед Юрий Данилович Лившиц, один из родоначальников юридического образования в ЮУрГУ. Доктор технических наук Виталий Васильевич Мельников, основатель южноуральской научной школы радиоинженеров. Основатель другой научной школы – строительных конструкций – профессор Александр Александрович Оатул.
Сейчас в пантеоне больше десятка бюстов. Последний – профессора Гохфельда – появился в марте 2020 года.– Давид Аронович открыл новое направление в устоявшейся, казалось бы, науке о прочности. Он один из тех, кто заложил потенциал в наш университет и прославил его, – сказал на открытии монумента Александр Шестаков.
По мнению ректора ЮУрГУ, советское научное прошлое было достойным. Надо не отказываться от него, а брать за моральный ориентир и не стесняться следовать лучшим идеям.
Сейчас в пантеоне больше десятка бюстов. Последний – профессора Гохфельда – появился в марте 2020 года.– Давид Аронович открыл новое направление в устоявшейся, казалось бы, науке о прочности. Он один из тех, кто заложил потенциал в наш университет и прославил его, – сказал на открытии монумента Александр Шестаков.
По мнению ректора ЮУрГУ, советское научное прошлое было достойным. Надо не отказываться от него, а брать за моральный ориентир и не стесняться следовать лучшим идеям.
