челябинск. бизнес
Когда деревья стали большими
Вчера, сегодня, завтра российского приборостроения на примере завода "Теплоприбор"
Старую фотографию заводоуправления «Теплоприбора» легко найти в
интернете. Сделана она, похоже, в семидесятых – золотую эпоху советского приборостроения. Тогда в промежуток с 1966-го по 1975-й объемы производства в СССР выросли почти в восемь раз, а в следующие два года сам «Теплоприбор» сначала наградили Знаком Почета, а следом
присвоили звание «Образцовое предприятие Министерства».
Здание завода на фото белое-белое. Перед фасадом – аллея. Ясени тонкие, молодые, верхушки едва достигают второго этажа... Теперь, спустя почти полсотни лет, стены «Теплоприбора» окрашены ярко: в горчицу и кармин. Аллея переросла крышу, а приборостроение лишилось былого величия. Сегодня, когда деревья стали большими, условия рынка обязывают заводы меняться.
интернете. Сделана она, похоже, в семидесятых – золотую эпоху советского приборостроения. Тогда в промежуток с 1966-го по 1975-й объемы производства в СССР выросли почти в восемь раз, а в следующие два года сам «Теплоприбор» сначала наградили Знаком Почета, а следом
присвоили звание «Образцовое предприятие Министерства».
Здание завода на фото белое-белое. Перед фасадом – аллея. Ясени тонкие, молодые, верхушки едва достигают второго этажа... Теперь, спустя почти полсотни лет, стены «Теплоприбора» окрашены ярко: в горчицу и кармин. Аллея переросла крышу, а приборостроение лишилось былого величия. Сегодня, когда деревья стали большими, условия рынка обязывают заводы меняться.
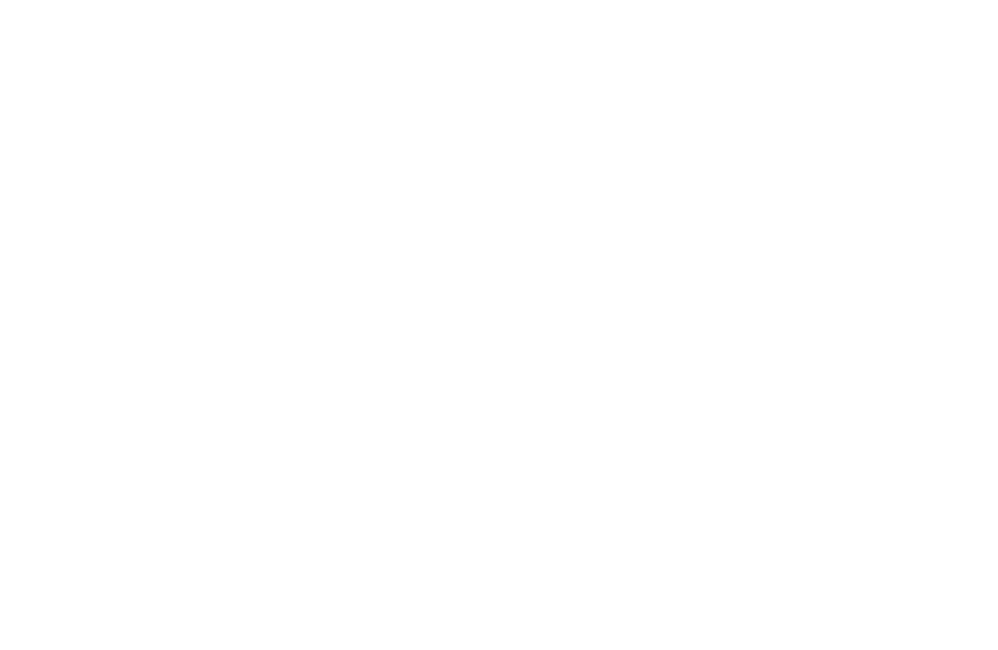
Знаете, как называется наш датчик давления? – интересуется технический директор «Теплоприбора» Андрей Спешков – Crocus! А знаете, почему? Крокус – это шафран, самая дорогая в мире пряность. А еще оранжевый – наш фирменный цвет.
На беглый взгляд, переход на капиталистические рельсы дался «Теплоприбору» почти безболезненно. Завод
не закрылся в 90-е и сохранил все 52 тысячи кв. м собственной территории. Ему вернулся статус одного из отраслевых лидеров, а вместе с ним 40% отечественного рынка температурных датчиков. Но вот эта штука в руках Спешкова – тот самый Crocus – подтверждает: от прежнего «Теплоприбора» сохранилась лишь оболочка. В советском мире производство датчиков давления не смогло бы расцвести на заводе, заточенном под «температуру».
– Раньше специализацию производствам диктовал центр, а не рынок, – генеральный директор «Теплоприбора» Андрей Ухин первым делом показывает маленький заводской музей. На стенах висят датчики измерения температуры в порядке их появления. Похоже на схему эволюции животного мира, где вместо
простейших и хордовых – мемографы и экографы. – Одно предприятие обеспечивало СССР датчиками давления, другое – температуры, третье – расхода. И в наши дни измерительные приборы делятся на «тонкие» самодостаточные направления, которые требуют своих научных исследований. Универсальных заводов, способных закрыть все направления разом, не существует.
Точнее, не существовало. Все идет к тому, что приборные заводы превратятся в мультиинструменталистов.
И в этом главное отличие советского приборостроения от российского: у предприятий исчезла узкая специализация. Потребители приборной продукции требуют от поставщиков систему обслуживания «все включено», как на турецких курортах, и готовы работать лишь с теми, кто предлагает разноплановое оборудование.
На беглый взгляд, переход на капиталистические рельсы дался «Теплоприбору» почти безболезненно. Завод
не закрылся в 90-е и сохранил все 52 тысячи кв. м собственной территории. Ему вернулся статус одного из отраслевых лидеров, а вместе с ним 40% отечественного рынка температурных датчиков. Но вот эта штука в руках Спешкова – тот самый Crocus – подтверждает: от прежнего «Теплоприбора» сохранилась лишь оболочка. В советском мире производство датчиков давления не смогло бы расцвести на заводе, заточенном под «температуру».
– Раньше специализацию производствам диктовал центр, а не рынок, – генеральный директор «Теплоприбора» Андрей Ухин первым делом показывает маленький заводской музей. На стенах висят датчики измерения температуры в порядке их появления. Похоже на схему эволюции животного мира, где вместо
простейших и хордовых – мемографы и экографы. – Одно предприятие обеспечивало СССР датчиками давления, другое – температуры, третье – расхода. И в наши дни измерительные приборы делятся на «тонкие» самодостаточные направления, которые требуют своих научных исследований. Универсальных заводов, способных закрыть все направления разом, не существует.
Точнее, не существовало. Все идет к тому, что приборные заводы превратятся в мультиинструменталистов.
И в этом главное отличие советского приборостроения от российского: у предприятий исчезла узкая специализация. Потребители приборной продукции требуют от поставщиков систему обслуживания «все включено», как на турецких курортах, и готовы работать лишь с теми, кто предлагает разноплановое оборудование.
На беглый взгляд, переход на капиталистические
рельсы дался «Теплоприбору» почти безболезненно. Завод не закрылся в 90-е и сохранил все 52 тысячи кв. м собственной территории. Ему вернулся статус одного из отраслевых лидеров, а вместе с ним 40%
отечественного рынка температурных датчиков.
рельсы дался «Теплоприбору» почти безболезненно. Завод не закрылся в 90-е и сохранил все 52 тысячи кв. м собственной территории. Ему вернулся статус одного из отраслевых лидеров, а вместе с ним 40%
отечественного рынка температурных датчиков.
Рынок сказал: надо!
Но не сказал, где взять то, чего у тебя нет и никогда не было. Приходилось действовать по ситуации.
Журналистский материал на портале, посвященный нефтегазовой промышленности, называется «Поддельное импортозамещение» и начинается так: «Отечественный топливно-энергетический комплекс столкнулся с проблемой при попытке отказаться от зарубежных оборудования и услуг. Несмотря на несколько лет действия различных профильных программ и вложенных миллиардов, зачастую «российские» инжиниринговые компании предоставляют все те же иностранные технологии, наклеив на них ярлык «сделано в России».
По факту же ТЭК ни в чем не пострадал. Он получал и получает качественное оборудование. Откуда оно родом
– вопрос десятый. Ему нужны поставки по заданным параметрам и вовремя – у ТЭКа они есть. То, что эти параметры идеальны для иностранцев, но превращаются в прокрустово ложе, в пока невыполнимые условия для российских заводов, никто не принимает в расчет. Искать всю приборную линейку у отечественных производителей с исторически сложившейся узкой специализацией – словно предлагать учителю математики вести уроки музыки, литературы и химии. Причем прямо сейчас, без времени на подготовку.
«В итоге, чтобы не потерять заказчиков, национальные заводы искали партнеров, обычно зарубежных, и поставляли собственную и чужую продукцию одним пакетом, иногда под своими ярлыками, – вспоминает Константин Захаров, ныне депутат Законодательного собрания, а в период с 1999 по 2006 год – генеральный директор завода «Теплоприбор». – Заказчикам это нравилось. Иностранцам тоже. Они получали готовую
сеть распространения».
Но не сказал, где взять то, чего у тебя нет и никогда не было. Приходилось действовать по ситуации.
Журналистский материал на портале, посвященный нефтегазовой промышленности, называется «Поддельное импортозамещение» и начинается так: «Отечественный топливно-энергетический комплекс столкнулся с проблемой при попытке отказаться от зарубежных оборудования и услуг. Несмотря на несколько лет действия различных профильных программ и вложенных миллиардов, зачастую «российские» инжиниринговые компании предоставляют все те же иностранные технологии, наклеив на них ярлык «сделано в России».
По факту же ТЭК ни в чем не пострадал. Он получал и получает качественное оборудование. Откуда оно родом
– вопрос десятый. Ему нужны поставки по заданным параметрам и вовремя – у ТЭКа они есть. То, что эти параметры идеальны для иностранцев, но превращаются в прокрустово ложе, в пока невыполнимые условия для российских заводов, никто не принимает в расчет. Искать всю приборную линейку у отечественных производителей с исторически сложившейся узкой специализацией – словно предлагать учителю математики вести уроки музыки, литературы и химии. Причем прямо сейчас, без времени на подготовку.
«В итоге, чтобы не потерять заказчиков, национальные заводы искали партнеров, обычно зарубежных, и поставляли собственную и чужую продукцию одним пакетом, иногда под своими ярлыками, – вспоминает Константин Захаров, ныне депутат Законодательного собрания, а в период с 1999 по 2006 год – генеральный директор завода «Теплоприбор». – Заказчикам это нравилось. Иностранцам тоже. Они получали готовую
сеть распространения».
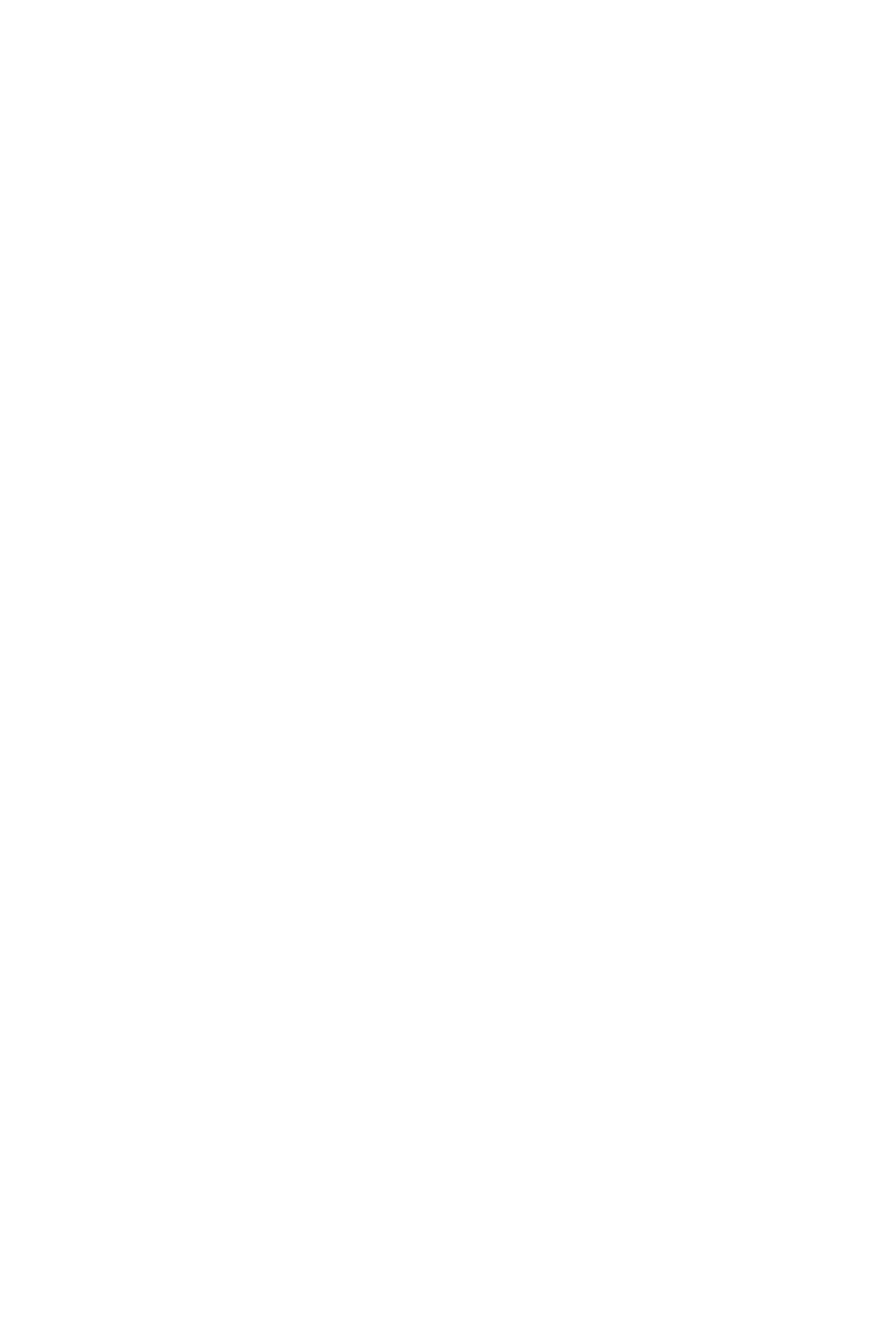
в совремеННой
«приборостроительНой»
россии оставаться
эффективНым,
развивающимся,
приНосящим прибыль
предприятием – то
же самое, что быть
едиНствеННым здоровым
оргаНом в источеННом
болезНями теле: можНо,
Но крайНе сложНо.
«приборостроительНой»
россии оставаться
эффективНым,
развивающимся,
приНосящим прибыль
предприятием – то
же самое, что быть
едиНствеННым здоровым
оргаНом в источеННом
болезНями теле: можНо,
Но крайНе сложНо.
Технический директор подходит к столу, на котором лежит уровнемер непрерывного действия «Левелтач».
Это нынешняя гордость конструкторов «Теплоприбора», но то, как приступали к его разработкам, не давало никаких поводов для оптимизма:
– Наше движение в сторону от узкой «температурной» специализации началось в 2012 году, – рассказывает Спешков. – На выставке всемирных достижений в Ганновере я познакомился с европейской компанией, которая вот такие уровнемеры создавала. С ней завязались партнерские отношения, мы и сейчас их поддерживаем.
Первые уровнемеры «Теплоприбора» де-факто были только сертифицированы в России. Постепенно производство локализовали: освоили выпуск волноводов, корпусов, механики, соединений.
– Сейчас даже дисплеи и электроника наши, – улыбается Андрей Спешков. Из 100 000 наименований продукции, которую сегодня выпускает «Теплоприбор», непрофильные для завода уровнемеры стали
самым технически сложным изделием. Случились бы они без участия зарубежных партнеров и образцов, без доступа к достижениям мировых научно-производственных центров? Вряд ли. В свое время Китай поднимал собственное приборостроение так же: покупал специалистов и технологии. И нам не перепрыгнуть этот
этап. Во-первых, у специализированных заводов никогда не было наработок в смежных областях. Во-вторых, в 90-е многие отечественные технологии были утеряны, их потребовалось не просто воссоздавать, а изобретать повторно.
– Мы почти освоили абсолютно новый для нас бесконтактный метод измерения уровня, – говорит Ухин. – Радарные уровнемеры не погружают в нефть или жидкость, вместо этого работает радар. К концу года мы их сертифицируем, а в следующем они уже будут в продаже.
Одно принципиально новое устройство – маленький шаг в глазах критиков российских производителей и большой для приборостроения и конкретного предприятия.
Это нынешняя гордость конструкторов «Теплоприбора», но то, как приступали к его разработкам, не давало никаких поводов для оптимизма:
– Наше движение в сторону от узкой «температурной» специализации началось в 2012 году, – рассказывает Спешков. – На выставке всемирных достижений в Ганновере я познакомился с европейской компанией, которая вот такие уровнемеры создавала. С ней завязались партнерские отношения, мы и сейчас их поддерживаем.
Первые уровнемеры «Теплоприбора» де-факто были только сертифицированы в России. Постепенно производство локализовали: освоили выпуск волноводов, корпусов, механики, соединений.
– Сейчас даже дисплеи и электроника наши, – улыбается Андрей Спешков. Из 100 000 наименований продукции, которую сегодня выпускает «Теплоприбор», непрофильные для завода уровнемеры стали
самым технически сложным изделием. Случились бы они без участия зарубежных партнеров и образцов, без доступа к достижениям мировых научно-производственных центров? Вряд ли. В свое время Китай поднимал собственное приборостроение так же: покупал специалистов и технологии. И нам не перепрыгнуть этот
этап. Во-первых, у специализированных заводов никогда не было наработок в смежных областях. Во-вторых, в 90-е многие отечественные технологии были утеряны, их потребовалось не просто воссоздавать, а изобретать повторно.
– Мы почти освоили абсолютно новый для нас бесконтактный метод измерения уровня, – говорит Ухин. – Радарные уровнемеры не погружают в нефть или жидкость, вместо этого работает радар. К концу года мы их сертифицируем, а в следующем они уже будут в продаже.
Одно принципиально новое устройство – маленький шаг в глазах критиков российских производителей и большой для приборостроения и конкретного предприятия.
ИЗ 100 000 НАМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ВЫПУСКАЕТ «ТЕПЛОПРИБОР», НЕПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАВОДА УРОВНЕМЕРЫ СТАЛИ САМЫМ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ ИЗДЕЛИЕМ. СЛУЧИЛИСЬ БЫ ОНИ БЕЗ УЧАСТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И ОБРАЗЦОВ, БЕЗ ДОСТУПА К ДОСТИЖЕНИЯМ ИНОСТРАННЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ? В СВОЕ ВРЕМЯ КИТАЙ
ПОДНИМАЛ СОБСТВЕННОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ТАК ЖЕ:
ПОКУПАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНОЛОГИИ. И НАМ ВРЯД
ЛИ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЭТОТ ЭТАП.
ПОДНИМАЛ СОБСТВЕННОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ТАК ЖЕ:
ПОКУПАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНОЛОГИИ. И НАМ ВРЯД
ЛИ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЭТОТ ЭТАП.
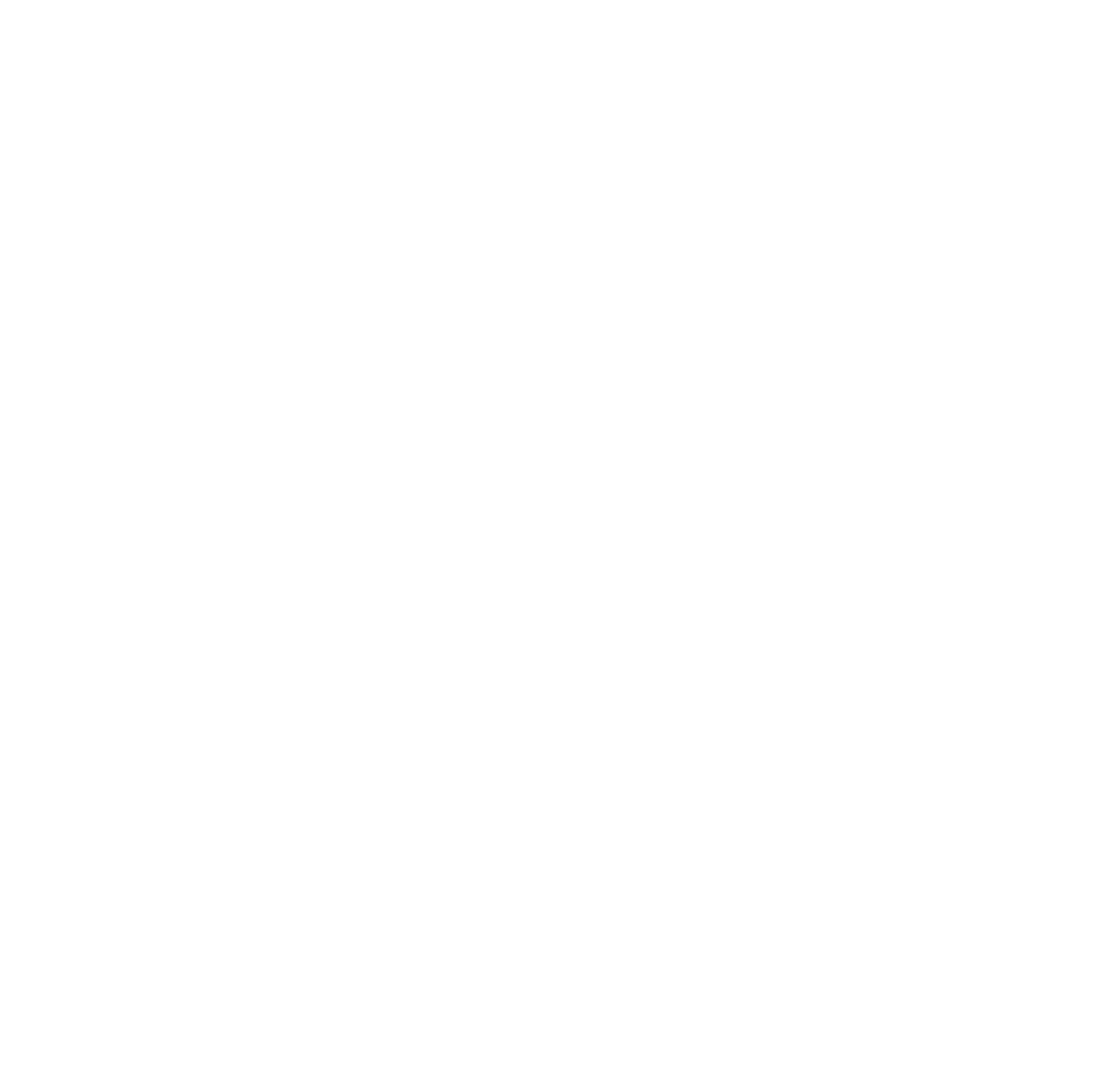
Идти по приборам
В современной «приборостроительной» России оставаться эффективным, развивающимся, приносящим
прибыль предприятием – то же самое, что быть единственным здоровым органом в источенном болезнями
теле: можно, но крайне сложно. Являясь частью системы, нельзя не ощущать негативных воздействий извне. Нет производителей компонентов (резисторов, транзисторов, электросхем), поддержки государства, благосклонности заказчиков к отечественным компаниям. Нет экономической стабильности наконец.
Пока из каждого утюга скандируют: «Дорогу российским производителям!», ты оглядываешься и понимаешь:
в твою пользу не играет ни одно обстоятельство.
– Сколько времени потребовалось, чтобы создать собственный уровнемер «Левелтач»? – спрашиваю у Спешкова.
– Считайте сами: начали в 2012 году, закончим в 2019-м. 7,5 года – это долго. Можно быстрее, если иметь неограниченные ресурсы, как за рубежом. Оборудование требуется импортное, высокоточное, а в 2014 году доллар вскочил и сейчас опять растет. Мы из-за доллара не заключаем долгосрочные контракты. Максимум годовые. Заказчики просят фиксировать цены, а нам неясно, что будет с курсом и стоимостью компонентов. В июне 2014-го «Теплоприбор» выиграл огромный тендер. Объект еще строился, и в договоре заказчик указал, что поставка температурных датчиков нужна не раньше, чем через 150 дней. А в конце того года помните,
что было? Мы не могли дождаться, когда срок истечет. Чуть не попали на огромные деньги.
В современной «приборостроительной» России оставаться эффективным, развивающимся, приносящим
прибыль предприятием – то же самое, что быть единственным здоровым органом в источенном болезнями
теле: можно, но крайне сложно. Являясь частью системы, нельзя не ощущать негативных воздействий извне. Нет производителей компонентов (резисторов, транзисторов, электросхем), поддержки государства, благосклонности заказчиков к отечественным компаниям. Нет экономической стабильности наконец.
Пока из каждого утюга скандируют: «Дорогу российским производителям!», ты оглядываешься и понимаешь:
в твою пользу не играет ни одно обстоятельство.
– Сколько времени потребовалось, чтобы создать собственный уровнемер «Левелтач»? – спрашиваю у Спешкова.
– Считайте сами: начали в 2012 году, закончим в 2019-м. 7,5 года – это долго. Можно быстрее, если иметь неограниченные ресурсы, как за рубежом. Оборудование требуется импортное, высокоточное, а в 2014 году доллар вскочил и сейчас опять растет. Мы из-за доллара не заключаем долгосрочные контракты. Максимум годовые. Заказчики просят фиксировать цены, а нам неясно, что будет с курсом и стоимостью компонентов. В июне 2014-го «Теплоприбор» выиграл огромный тендер. Объект еще строился, и в договоре заказчик указал, что поставка температурных датчиков нужна не раньше, чем через 150 дней. А в конце того года помните,
что было? Мы не могли дождаться, когда срок истечет. Чуть не попали на огромные деньги.
Необходимое для сборки я хочу брать
у других российских производителей, а
покупать приходится за рубежом, потому
что либо нет аналогов, либо они
неконкурентны по цене или качеству.
у других российских производителей, а
покупать приходится за рубежом, потому
что либо нет аналогов, либо они
неконкурентны по цене или качеству.
Невозможность с уверенностью смотреть вперед и составить долгосрочный прогноз имеет еще одно следствие: акционеры, не вполне реалистично оценивая конкурентоспособность заводов, осторожничают вкладывать в переподготовку кадров и технологии. Направления, которые не приносят мгновенные дивиденды, но обеспечат будущее предприятия на рынке, оказываются недофинансированы с аргументом: «Что будет дальше, еще неизвестно». Захаров считает такое положение вещей парализующим промышленность, ставящим ее в заведомо проигрышную позицию по сравнению с иноземными конкурентами. России необходима стратегия развития общества на 50 лет. На ее основе муниципалитеты выстроят свою – на двадцатилетие, а бизнес сформирует планы на пятилетку. И, чтобы окрепнуть, этого будет ему достаточно.
Чужой среди своих
– Здесь изготавливают электронную начинку для всех наших датчиков, – технический директор показывает один из приборных цехов. На полу и подоконниках ни пылинки, в горшке цветет гибискус. Шум доносится только из помещения за стеклом: швейцарский станок расставляет компоненты на печатные платы. За столами сотрудники «Теплоприбора» занимаются тем же вручную. Новые и нестандартные изделия нет смысла заряжать большими партиями. – Мы покупаем компоненты в Азии: Тайване, КНР, – объясняет Спешков. – Но не обязательно. В одной плате их может быть полторы сотни со всех концов света.
– А есть смысл развивать их производство в нашей стране?
– Есть, но только не нам. Мы и так сами делаем платы, хотя раньше покупали. По-хорошему, найти бы российского поставщика… Они существуют, но не выдерживают никакой критики. Их продукт дает большие погрешности, а уровнемерам нужна точность до трех миллиметров на сорокаметровой глубине.
«Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов», – однажды ответил Ньютон, видимо, на очередной комплимент его научному гению. В некотором роде приборостроение – тоже Ньютон, отрасль высоких переделов, которая вбирает в себя все самое современное из области материаловедения,
организации производства, науки, образования. Нашему же приборостроению не на что опереться. Под ним не стоят гиганты, готовые поднять его на головокружительную высоту.
– В бизнесе существует понятие «аутсорсинг», – объясняет генеральный директор Андрей Ухин. – Я отдаю во
внешнюю среду все процессы не своей специализации. Если завод приборостроительный, зачем развивать сталелитейку, огранку, гальванику? Они лягут на себестоимость продукта и отвлекут ресурсы от основного производства. Необходимое для сборки я хочу брать у других российских производителей, а покупать
приходится за рубежом, потому что либо нет аналогов, либо они неконкурентны по цене или качеству. Отечественным компаниям даже невыгодно заниматься компонентами. Спрос, который формируют единичные предприятия вроде нашего, мизерный и не влияет на рынок. Сейчас там довлеют госсектор, крупные госкорпорации, которым плевать на отдельно взятые сегменты. С точки зрения бизнеса, возможно, они правы. Ответственность за модернизацию экономики страны лежит на правительстве, оно задает правила
игры.
Константин Захаров вспоминает, как в нулевых появились сахалинские шельфовые проекты, воплощать которые решили в интересах российских компаний на условиях частно-государственного партнерства. Было заявлено, что 80% средств освоят национальные производители оборудования. В итоге так и произошло,
но большую часть бюджета закрыли не связанной с высокими технологиями продукцией. Проектирование систем управления вместе с электроникой поручили иностранным поставщикам и производителям.
Тенденция сохраняется и сегодня, несмотря на санкционную и импортозамещающую политику. Наши высокопередельные отрасли не востребованы на своем же рынке. Крупные российские компании готовы брать на родине механообработку, трубы, емкости для газа, а приборостроителям приходится искать узкие ниши, не заполненные иностранцами. Когда на одной из встреч с руководителем нефтегазовой корпорации Захаров озвучил, что Челябинская область выпускает 30% российской приборной продукции, то услышал в ответ: «Это для нас проблемой не является. Мы работаем с зарубежными поставщиками».
Подтверждая слова Захарова, Андрей Спешков указывает, что зарубежные компании действуют обратным образом и протежируют земляков:
– Если контракт выигрывают японцы, то инжиниринг и прокьюремент снабжения будут делать компании из их страны. То же касается европейцев. Своих они тащат, чужих не пускают.
– Здесь изготавливают электронную начинку для всех наших датчиков, – технический директор показывает один из приборных цехов. На полу и подоконниках ни пылинки, в горшке цветет гибискус. Шум доносится только из помещения за стеклом: швейцарский станок расставляет компоненты на печатные платы. За столами сотрудники «Теплоприбора» занимаются тем же вручную. Новые и нестандартные изделия нет смысла заряжать большими партиями. – Мы покупаем компоненты в Азии: Тайване, КНР, – объясняет Спешков. – Но не обязательно. В одной плате их может быть полторы сотни со всех концов света.
– А есть смысл развивать их производство в нашей стране?
– Есть, но только не нам. Мы и так сами делаем платы, хотя раньше покупали. По-хорошему, найти бы российского поставщика… Они существуют, но не выдерживают никакой критики. Их продукт дает большие погрешности, а уровнемерам нужна точность до трех миллиметров на сорокаметровой глубине.
«Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов», – однажды ответил Ньютон, видимо, на очередной комплимент его научному гению. В некотором роде приборостроение – тоже Ньютон, отрасль высоких переделов, которая вбирает в себя все самое современное из области материаловедения,
организации производства, науки, образования. Нашему же приборостроению не на что опереться. Под ним не стоят гиганты, готовые поднять его на головокружительную высоту.
– В бизнесе существует понятие «аутсорсинг», – объясняет генеральный директор Андрей Ухин. – Я отдаю во
внешнюю среду все процессы не своей специализации. Если завод приборостроительный, зачем развивать сталелитейку, огранку, гальванику? Они лягут на себестоимость продукта и отвлекут ресурсы от основного производства. Необходимое для сборки я хочу брать у других российских производителей, а покупать
приходится за рубежом, потому что либо нет аналогов, либо они неконкурентны по цене или качеству. Отечественным компаниям даже невыгодно заниматься компонентами. Спрос, который формируют единичные предприятия вроде нашего, мизерный и не влияет на рынок. Сейчас там довлеют госсектор, крупные госкорпорации, которым плевать на отдельно взятые сегменты. С точки зрения бизнеса, возможно, они правы. Ответственность за модернизацию экономики страны лежит на правительстве, оно задает правила
игры.
Константин Захаров вспоминает, как в нулевых появились сахалинские шельфовые проекты, воплощать которые решили в интересах российских компаний на условиях частно-государственного партнерства. Было заявлено, что 80% средств освоят национальные производители оборудования. В итоге так и произошло,
но большую часть бюджета закрыли не связанной с высокими технологиями продукцией. Проектирование систем управления вместе с электроникой поручили иностранным поставщикам и производителям.
Тенденция сохраняется и сегодня, несмотря на санкционную и импортозамещающую политику. Наши высокопередельные отрасли не востребованы на своем же рынке. Крупные российские компании готовы брать на родине механообработку, трубы, емкости для газа, а приборостроителям приходится искать узкие ниши, не заполненные иностранцами. Когда на одной из встреч с руководителем нефтегазовой корпорации Захаров озвучил, что Челябинская область выпускает 30% российской приборной продукции, то услышал в ответ: «Это для нас проблемой не является. Мы работаем с зарубежными поставщиками».
Подтверждая слова Захарова, Андрей Спешков указывает, что зарубежные компании действуют обратным образом и протежируют земляков:
– Если контракт выигрывают японцы, то инжиниринг и прокьюремент снабжения будут делать компании из их страны. То же касается европейцев. Своих они тащат, чужих не пускают.
Возвращение в Эдем
Андрей Ухин работает на «Теплоприборе» почти десять лет. Первую половину срока – директором по производству, вторую – в должности генерального. Это благодаря ему у «Теплоприбора» появилась широкая сеть представительств на всей территории страны, а ассортимент завода пополнился уровнемерами и приборами контроля давления. Раньше в них не было необходимости. «Теплоприбор» создавали под металлургическую отрасль, но Ухин решил пойти и к нефтяникам: сегодня они стоят на ногах тверже. Теперь в пакете заказов и те, и другие имеют примерно равные доли.
Однако самый амбициозный проект последних лет – возвращение в 2018 году утраченного производства одноразовых датчиков измерения температуры – связан как раз с металлургами, а конкретно – с ММК. Эта история достойна голливудской экранизации. В ней присутствуют все элементы драматического сюжета: беззаботное начало, внезапный и несокрушимый противник, горькое поражение, странствие и восстановление сил, возвращение… Последует ли финал драмы за классическим каноном и завершится ли она сатисфакцией «Теплоприбора», покажет время. Нас же интересует другое: почему монополист в области одноразовых температурных датчиков, коим являлся «Теплоприбор» еще лет 12 назад, в свое время сдался конкуренту из Бельгии без боя.
Рассказывает Константин Захаров, очевидец и участник событий:
– Наша доля на российском рынке одноразовых датчиков превышала 90%. Но мы не были представлены во внешней среде: продажи шли только в России и постсоветском пространстве. В мире же этот сегмент развивался в условиях противостояния. Лидером считалась бельгийская Heraeus Electro-Nite, и однажды она зашла на наш внутренний рынок. Компания снизила цену на датчики вдвое, сделала ее ниже себестоимости. Ответить на вызов нам было нечем. Клиентам предложили «Мерседес» по цене «Запорожца», а мы выпускали «Жигули». Тогда конкурент дал нам выбрать: либо медленное угасание, либо он купит производство целиком. Я был против продажи, но большинство специалистов завода высказались «за».
По соглашению сторон, «Теплоприбор» не имел права воссоздавать производство на протяжении десяти лет, зато настоял на сохранении торговой марки «Теплоприбор Экспресс Анализ», под которой бельгийцы и работали все эти годы. Сейчас завод намерен вернуть утраченное, но прямого столкновения с главным конкурентом ждать не придется. Рыночная обстановка изменилась. Монополия рассыпалась, на площадку зашли мелкие игроки, и в немалой степени они «определяют погоду». Набирать очки Ухин собирается за их счет, и, по его оценкам, «Теплоприбор» способен с ходу забрать треть двухмиллиардного рынка.
Возрождать производство одноразовых датчиков решили на территории индустриального парка ММК. «Теплоприбору» выгодно такое соседство. Металлургический комбинат – крупнейший потребитель этих приборов. Если заводу удастся заключить с ним контракт, можно будет сэкономить на транспортных издержках.
Андрей Ухин работает на «Теплоприборе» почти десять лет. Первую половину срока – директором по производству, вторую – в должности генерального. Это благодаря ему у «Теплоприбора» появилась широкая сеть представительств на всей территории страны, а ассортимент завода пополнился уровнемерами и приборами контроля давления. Раньше в них не было необходимости. «Теплоприбор» создавали под металлургическую отрасль, но Ухин решил пойти и к нефтяникам: сегодня они стоят на ногах тверже. Теперь в пакете заказов и те, и другие имеют примерно равные доли.
Однако самый амбициозный проект последних лет – возвращение в 2018 году утраченного производства одноразовых датчиков измерения температуры – связан как раз с металлургами, а конкретно – с ММК. Эта история достойна голливудской экранизации. В ней присутствуют все элементы драматического сюжета: беззаботное начало, внезапный и несокрушимый противник, горькое поражение, странствие и восстановление сил, возвращение… Последует ли финал драмы за классическим каноном и завершится ли она сатисфакцией «Теплоприбора», покажет время. Нас же интересует другое: почему монополист в области одноразовых температурных датчиков, коим являлся «Теплоприбор» еще лет 12 назад, в свое время сдался конкуренту из Бельгии без боя.
Рассказывает Константин Захаров, очевидец и участник событий:
– Наша доля на российском рынке одноразовых датчиков превышала 90%. Но мы не были представлены во внешней среде: продажи шли только в России и постсоветском пространстве. В мире же этот сегмент развивался в условиях противостояния. Лидером считалась бельгийская Heraeus Electro-Nite, и однажды она зашла на наш внутренний рынок. Компания снизила цену на датчики вдвое, сделала ее ниже себестоимости. Ответить на вызов нам было нечем. Клиентам предложили «Мерседес» по цене «Запорожца», а мы выпускали «Жигули». Тогда конкурент дал нам выбрать: либо медленное угасание, либо он купит производство целиком. Я был против продажи, но большинство специалистов завода высказались «за».
По соглашению сторон, «Теплоприбор» не имел права воссоздавать производство на протяжении десяти лет, зато настоял на сохранении торговой марки «Теплоприбор Экспресс Анализ», под которой бельгийцы и работали все эти годы. Сейчас завод намерен вернуть утраченное, но прямого столкновения с главным конкурентом ждать не придется. Рыночная обстановка изменилась. Монополия рассыпалась, на площадку зашли мелкие игроки, и в немалой степени они «определяют погоду». Набирать очки Ухин собирается за их счет, и, по его оценкам, «Теплоприбор» способен с ходу забрать треть двухмиллиардного рынка.
Возрождать производство одноразовых датчиков решили на территории индустриального парка ММК. «Теплоприбору» выгодно такое соседство. Металлургический комбинат – крупнейший потребитель этих приборов. Если заводу удастся заключить с ним контракт, можно будет сэкономить на транспортных издержках.
Банановая республика
Все же сохранилось кое-что, роднящее «Теплоприбор» образца 2018 года с тем, изображенным на черно-белой фотографии. Менеджерские способности его руководителей не позволили потерять ни одного метра
площади, принадлежащей заводу со времен СССР. В 1998-м территорию начали превращать в индустриальный парк. По словам Ухина, желающие стать резидентами выстраиваются в очередь, но пустующих помещений нет давно. Их занимают разнопрофильные предприятия, с частью которых у
«Теплоприбора» наладились деловые симбиотические отношения.
Как и в эпоху Советского Союза, предприятие несет на себе социальную нагрузку. На его деньги отремонтировали местный стадион, он носит имя завода. Круглый год там работают несколько спортивных секций. Они бесплатны не только для детей сотрудников, а для всей молодежи Металлургического района.
Будущее на «Теплоприборе» не принято расписывать в красках. Может быть, в этом есть доля суеверной осторожности, а может быть, понимание: когда обстоятельства меняются ежедневно, не стоит загадывать наперед, лучше сосредоточиться на текущем дне. Как бы там ни было, мнение Константина Захарова однозначно: в отношении приборостроения альтернативы у государства не существует. В ближайшей перспективе ему придется обратить внимание на отрасль. Или Россия превратится в джунгли, где вместо
бананов добывают нефть. ///
Все же сохранилось кое-что, роднящее «Теплоприбор» образца 2018 года с тем, изображенным на черно-белой фотографии. Менеджерские способности его руководителей не позволили потерять ни одного метра
площади, принадлежащей заводу со времен СССР. В 1998-м территорию начали превращать в индустриальный парк. По словам Ухина, желающие стать резидентами выстраиваются в очередь, но пустующих помещений нет давно. Их занимают разнопрофильные предприятия, с частью которых у
«Теплоприбора» наладились деловые симбиотические отношения.
Как и в эпоху Советского Союза, предприятие несет на себе социальную нагрузку. На его деньги отремонтировали местный стадион, он носит имя завода. Круглый год там работают несколько спортивных секций. Они бесплатны не только для детей сотрудников, а для всей молодежи Металлургического района.
Будущее на «Теплоприборе» не принято расписывать в красках. Может быть, в этом есть доля суеверной осторожности, а может быть, понимание: когда обстоятельства меняются ежедневно, не стоит загадывать наперед, лучше сосредоточиться на текущем дне. Как бы там ни было, мнение Константина Захарова однозначно: в отношении приборостроения альтернативы у государства не существует. В ближайшей перспективе ему придется обратить внимание на отрасль. Или Россия превратится в джунгли, где вместо
бананов добывают нефть. ///
Follow UNO on Facebook
