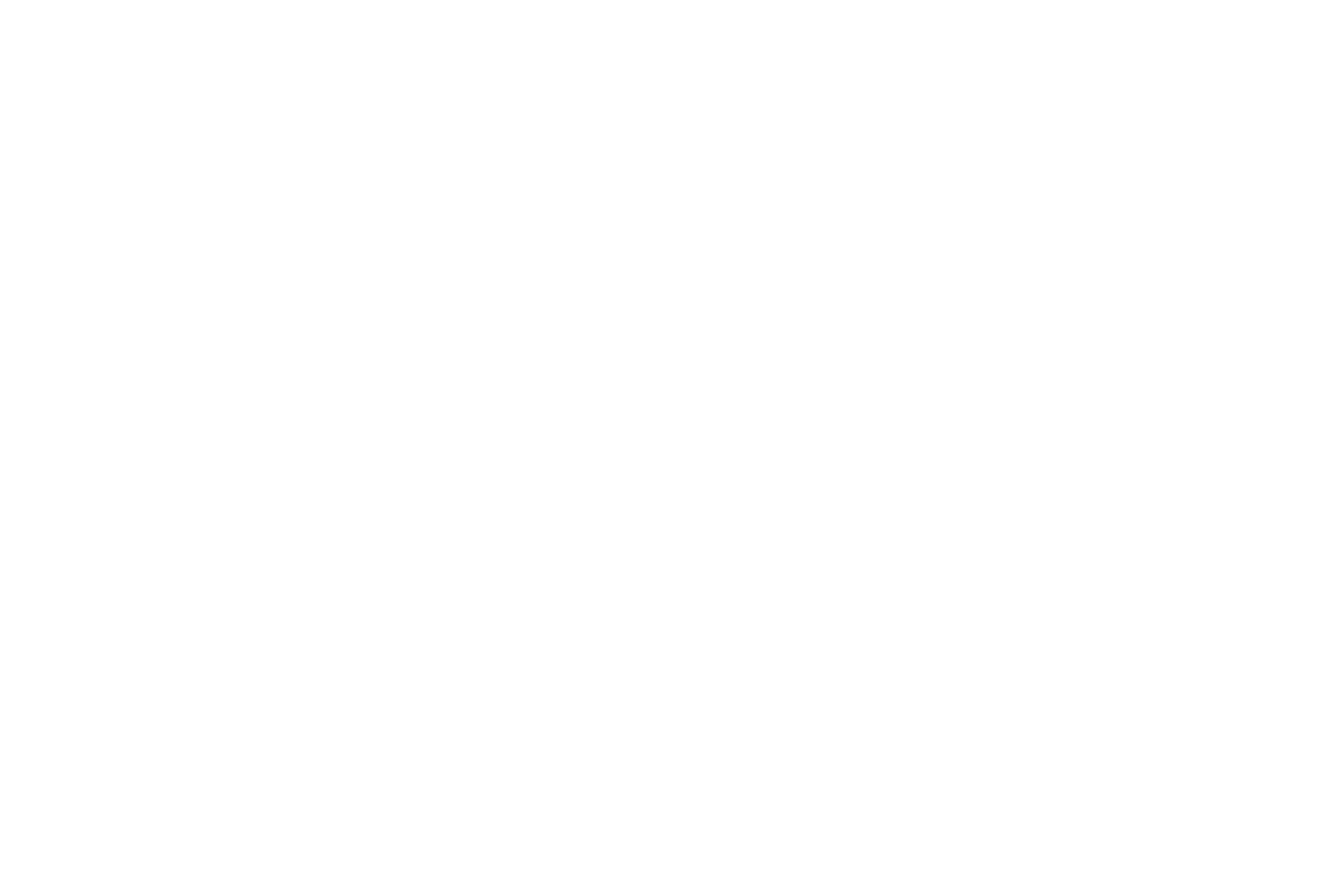Текст: Елена Пылаева
Фото: Иван Карлышев
Фото: Иван Карлышев
ЛЕЧИТЬ – УМ ТОЧИТЬ
Андрей Важенин, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, ушел с поста главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, чтобы больше времени уделять развитию образования. Приказом министра здравоохранения от 30 апреля 2021 года он назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. Какие задачи стоят перед ним сейчас? Почему растет количество случаев онкозаболеваний? Лучше ли лечат от рака за рубежом?
Из книги «Андрей Важенин.
Я такой, как есть… III»
Я такой, как есть… III»
- Триада специалистов в онкодиспансере определяет план лечения: химиотерапевт, онколог-хирург и радиолог. Это централизованная система онкологической помощи, которая маршрутизирует пациента по вертикали. То, к чему мы сейчас пытаемся вернуться, но не все с этим соглашаются. Сейчас, к сожалению, есть стремление к многовекторности: «Дайте мне несколько мнений». Когда пациент приходит для проведения лечения, это же не бизнес-проект какой-то, поэтому нужно не множество мнений, а правильное решение, которое должны принимать наиболее грамотные специалисты.
- На фасаде дружественного нам самарского диспансера написано, что «Рак – это всего лишь одно из хронических заболеваний». Это то, к чему мы стремимся. Если заглянуть в будущее, то во многих терминах нашей отрасли после ядерной медицины и запятой могут появиться биотехнологии. Обратите внимание, мы ушли от термина «химиотерапия» и говорим «противоопухолевая лекарственная». Роль биологических методов борьбы с раком возрастает и будет возрастать дальше.
- В первый раз я приехал в Иерусалим абсолютным атеистом, под впечатлением книжек Марка Твена и его юмористических трактовок религии. Так вот, я могу засвидетельствовать, что, прикасаясь к земле, где лежал Христос, несколько раз замечал, что она объективно теплая, заметно теплее, чем окружающий воздух! Значит, что-то было на этом маленьком пятачке земли, Богом заброшенной, в те времена, когда совершались основополагающие события истории нашей цивилизации за последние две тысячи лет.
- Мы очень долго вынашивали эту идею (о новом оперблоке. – прим. ред.), и вот буквально перед началом эпохи коронавируса ее воплотили в жизнь. Действительно блок, куда входят реанимация и операционные с ламинарными системами, с промышленным дизайном. Впервые в России такой проект был реализован. Когда показываешь фотографию, то спрашивают: «Это ты где побывал? В Дубае? В Англии?» Отвечаю: «Нет, на Блюхера, 42, в Челябинске».
- …друзья, посмотрим, что из этого выйдет (об избрании на должность и. о. ректора. – прим. ред.). Кто его знает, может быть, здесь спрятаны сюжеты для книг, а может быть – глубокое разочарование. Посмотрим. Во всяком случае, удалось всколыхнуть жизнь не только медицинского университета, центра онкологии, медицинского сообщества нашей области, но и мою собственную. Ровно и гладко жить, конечно, хорошо – но скучновато.
– Андрей Владимирович, как челябинское здравоохранение пережило 2020 год? С какими потерями и приобретениями вышло?
– Самый важный итог – мы выдержали этот удар со всеми издержками и проблемами, которые были. А самые большие потери – наши погибшие коллеги. Это невосполнимая утрата, главная трагедия.
В то же время мы научились работать в условиях пандемии. Целое поколение, даже два поколения врачей у нас не сталкивались с массовыми инфекционными заболеваниями. Мы знали о них по книжкам, в теории, и таким вещам, как изоляция, карантин, маршрутизация пациентов, пришлось учиться заново. Приобрели, конечно, в самосознании. Оказалось, мы многое умеем, многое можем, но не все нам под силу. Вернулось смирение – не будем сейчас уходить в философию и теологию. В целом область достойно прошла через первый и второй пики. Мы научились разворачивать и сворачивать базы, возвращаться к нормальному режиму работы. Медицинское сообщество обогатилось знаниями. Единственное, они дались нам большой кровью и трудом.
Челябинская область – только один из регионов Российской Федерации, и нам свойственны все проблемы, которые есть в отечественном здравоохранении. Мы не Москва, но и не Курганская область, где я недавно был. Мы обладаем технологиями и научной школой. У нас высокий кадровый потенциал, интеллектуальный, но проблема с медицинским персоналом остается – дефицит налицо. Существенное количество учеников после окончания вуза не доезжают до места будущей работы. Кстати, один из ударов ковида – много врачей солидного возраста выбыло из строя в силу болезни или боязни за свою жизнь. Это тоже понятно, они правильно поступили.
Особенно сильно нехватка кадров ощущается в первичном звене, от которого зависит вся остальная пирамида. Если на начальном уровне не будут выявлять сердечно-сосудистые заболевания, онкологию в ранних стадиях, тогда нашим высокотехнологичным клиникам нечего будет делать. Еще хочу сказать: сколько бы ни ругали профосмотры, они дают результат. Не тот, который ожидалось, но работают достоверно хорошо.
– Что сделать, чтобы эффект стал лучше?
– Проблема многофакторная и не только и не столько медицинская. Когда на человека обрушивается куча ложной, антинаучной информации, это накладывает свой отпечаток нигилизма на отношение ко многим вещам. Добавьте падение образовательного уровня, массовое невежество – особенно в интернете. Заглянешь туда – волосы встают дыбом.
– Не читайте до обеда советских газет…
– Абсолютно верно, но читают. Читают! Плюс безалаберное отношение к своему здоровью. Плюс – менталитет. Посмотрите на героев русских народных сказок. Наш человек – это не храбрый портняжка, а Иван-дурак, который или удачно женился на царевне, или поймал жар-птицу, или щуку вытащил. А если уж он идет за тридевять земель, стирает семь пар сапог, то ради того, чтобы всю оставшуюся жизнь ничего не делать. В этом наша особенность. Нас сложно вытянуть на профилактические мероприятия. Извращенная система страховой медицины только усугубляет положение. Мне довелось много поездить по миру. Еще в 1991 году молодым доктором я учился в Голландии, и меня поразило, как там все устроено. Нет никаких профосмотров. Ты работаешь, приходит карточка: «Сходить к пульмонологу». Можно не ходить? Можно, но сумма страхового взноса вырастет, а работодатель получит сигнал, что ты – безответственный человек. Родился маленький голландец – мамаша везет его на прививки, а не рассуждает на уровне домохозяйки, нужны они или нет. Прописано – надо делать. Если все выполнит и государство потратит на ребенка мало денег, мамаше положена премия, а оставшаяся у страховщика сумма идет на ребят, которые действительно нуждаются в помощи.
– Меня удивляет поколение сорокалетних. Нам все детство кололи прививки, и никто не задавался вопросом, что нам колют, кем разработана данная вакцина и сколько лет шли испытания. И вот теперь, начитавшись «советских газет» и будучи не в состоянии разобраться, где правда, где ложь, мы делаем выводы в сфере, в которой компетентность приобретается годами учебы и практики.
– Понимание границ своей компетентности – один из главных признаков наличия ума. Квалифицированные люди должны принимать решения, остальные – признавать их авторитет. Я сейчас ехал по дороге, стоит регулировщик. Все подчиняются жестам этого знающего и ответственного человека. Если каждый поедет, когда сам захочет, будет то, что мы наблюдаем сейчас в ситуации с вакцинированием.
– Налицо кризис власти, отсутствие доверия к ней. В этой проблеме мало медицины. Хочу поговорить вот о чем: когда родился сын, я искала ему врача, с которым мне было бы комфортно и которому бы, главное, я доверяла. Нашла. Много лет мы буквально жили вместе. Однажды в выходной день сын заболел, а я не могла до нее дозвониться и повезла его в поликлинику. В понедельник я показала назначение нашему доктору – удостовериться, все ли так. Она сказала: «Да, все профессионально, молодцы. Я только чуть-чуть внесу коррективы». И в итоге заменила весь список. Спустя какое-то время я брала у нее интервью, мы вспомнили этот случай, и она объяснила: «Знаешь, в чем дело: те, кто работают в поликлиниках, назначают лечение, но не знают, каковы у него бывают последствия. С последствиями имеем дело мы, те, кто принимают тяжелых больных в стационаре». Теперь вопрос: а что делать-то с этим начальным звеном, которое, как мне кажется, у нас самое слабое?
– Согласен с вами. То, что мы имеем, отражает отношение общества к здравоохранению. Появился ужасный термин – «медицинская услуга». (Даже в Библии написано: «В начале было Слово».) Но медицина – никакая не услуга. Услуга – коммерческое понятие, вещь, которую легко тиражировать: пришел в ресторан – тебе предложили шницель такой, сякой. А мы оказываем помощь, это совсем другая философия. В советское время все привыкли, что здравоохранение, образование вроде бы ничего не стоят, даются «с неба». И если надо было сократить расходы, то забирали именно оттуда. Начальное звено – самая уязвимая когорта медицинских работников. Сейчас делаются попытки исправить ситуацию: подъемные, губернаторские стипендии, программа «Сельский доктор». Но унифицированного инструмента пока нет. Понимаете, врач – это не продавец газированной воды. Ребята поступают в вуз, и практически каждый из них хочет стать Пироговым, Мясниковым, Склифосовским… Сюда идут не за деньгами.
– Но мы ведь знаем примеры, когда известные врачи, становились основателями частных клиник, получали коммерческий успех…
– Такое бывает, но это явление второстепенное. Исходные вещи – врачевание и профессиональные амбиции, карьера. У нас в России, перемещаясь в пространстве, мы перемещаемся еще и во времени. Вот прилетели вы домой из Москвы – хоп, и попали на пятнадцать лет назад. Из Челябинска уехали в Миасс – еще минус пятнадцать. Я говорю про окружающий мир целиком, в котором молодой доктор вынужден жить с семьей, про качество жизни. Оно не должно иметь такой разрыв между мегаполисами и другими городами, иначе последние окажутся без специалистов.
Да, сейчас ужесточают юридические рамки для «целевиков», которых территория направляет на обучение. Раньше договоры были мягкие, стали жестче. В какой-то степени это попытка вернуться к системе распределения. В ней я не вижу ничего плохого. При советской власти было больше разумного капитализма, чем сегодня. Что такое диплом о высшем образовании? Это беспроцентный кредит, который тебе дало общество, и ты должен его вернуть. Пока же выходит, что ты взял его даром и рассуждаешь о каких-то правах человека.
– Качество образования, которое в этих стенах дают сейчас, как вы оцениваете?
– Испокон веков в медицинский вуз был самый высокий конкурс и балл ЕГЭ (единый госэкзамен можно и нужно критиковать, но пока у нас есть только этот индикатор). И уровень нашего образования сохранился достаточно высоким, среди других регионов с медицинскими вузами в Южно-Уральском медуниверситете оно наиболее качественное. Безусловно, выпускник не равен в своих возможностях врачу с двадцатилетним стажем из хорошей клиники, врач учится всю жизнь. Но это человек с хорошей базой. Ему объективно можно доверить работу.
– Почему вы плохо относитесь к частной медицине?
– Я не отношусь плохо, но это не мое. Мне ближе масштабная государственная система здравоохранения. Частная медицина имеет место быть, но это рынок.
– Весь мир так живет.
– Почему? Весь мир живет на страховой и государственной медицине. Какие американцы лечатся в частных клиниках? Немцы, англичане? Все по страховке. Существует ряд глобальных вопросов, которые частная медицина решить не может. Будет ли она заниматься туберкулезом?
– Почему нет?
– Частная медицина – род бизнеса для получения прибыли. Бизнес решает только собственные, а не социальные задачи, и никогда не пойдет туда, где нет денег. Частная медицина не закроет пробелы, которые есть, хотя и работает с нами на одном поле. Система здравоохранения приносить прибыль не может. Если говорить прямо, мы в чем-то бодаемся с Господом. Этот парень говорит: «Давай я тебя к себе заберу», а врачи вмешиваются: «Погоди, он еще с нами побудет». Вот философски о чем идет речь. Косметология, еще что-то – могут быть частными, но это услуги.
– Меня всегда удивляют иконы в кабинете врачей. Казалось бы, кто лучше врача знает…
– Был такой доктор, хирург, профессор, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Его же вы сейчас видите на иконе – это архиепископ Лука. Жертва сталинских репрессий (одиннадцать лет лагерей) и лауреат Сталинской премии за работу по нейрохирургии – все соединилось в одном человеке. Приглашенный однажды в качестве эксперта на скорый революционный суд, он так ответил на вопрос общественного обвинителя: «Поп и профессор Войно-Ясенецкий, разве вы его видели, своего Бога?» – «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил».
Есть вещи малообъяснимые, видимо, в силу недостаточности наших знаний. Их можно по-разному называть. Сам я – верю. Религиозное учение интересно мне и философски. Вот эта иконка – из православного монастыря в Вене. Везде в библейских сюжетах мы видим Марию и Христа, мать и сына. Но совершенно за бортом остается Иосиф, отец. Вот этот монастырь посвящен взаимоотношениям отцов и детей, роли отца, феномену Иосифа, который воспитывал ребенка, взявшегося непонятно откуда. Поэтому, понимаете, кто бы что ни говорил, но православная религиозная доктрина несет в себе квинтэссенцию человеческого опыта, философской мысли, житейского знания. И от этого уйти нельзя.
– То есть это не вера в мироустройство, а больше уважение к религиозной мысли?
– Провести границу между верой и мироустройством очень сложно, это вещи неразъединимые. Возьмем даже физику, любимую мной. Стивена Хоккинга читали? Парень – наш современник. Очень интересно пишет! Нашими органами чувств мы можем воспринимать порядка четырех процентов мира, в котором живем. Девяносто шесть остаются, что называется, за кадром. Это темная материя, то, что для нас недоступно. Кто его знает, как влияют на нас эти девяносто шесть процентов?
– Вернусь к медицине. Какие первостепенные задачи вы ставите перед собой и командой?
– Первостепенны чисто утилитарные, прикладные задачи. Увеличить доезд выпускников до места работы. В области науки – возродить кооперацию с вузами других специальностей. Вернуть ситуацию, когда вуз выступает инициатором научных конгрессов и конференций, чтобы не мы шли за больницами, а больницы за нами, как должно быть. Сейчас пока не так. В целом надо активизировать научно-педагогическую деятельность в клиническом аспекте и решить вопрос о профессиональном пути выпускников. Продавец пива с медицинским дипломом – это, наверное, интеллектуально и красиво, но едва ли рационально и полезно для общества.
– В одном из интервью вы упомянули про медиков новой формации. Какой смысл вы вкладываете в это выражение?
– Когда я учился, к нам из Ашхабада приехал молодой профессор Николай Иванович Тарасов. Он потом создал здесь онкоурологическую школу, мы много лет вместе работали, дружили. Вот он говорил (это был 1981 год), что для успехов в нынешней жизни молодой человек или девушка должны уметь печатать на машинке (тот же компьютер), знать иностранный язык, фотографировать и уметь плавать – для души, для тела. В общем-то, эти параметры сохранились. Медицине нужен человек, мобильно пользующийся знаниями. Естественно, в это понятие входят интернет, английский язык, возможно, даже китайский – из КНР идут большие потоки информации. Плюс высокая обучаемость, коммуникабельность и устойчивость к влиянию окружающего мира, бреду, который идет с экранов. Те же вакцинонегативные медики толерантны к агрессивной информационной среде, а врач должен быть образованным, способным отделять зерна от плевел.
– Подходы к обучению врачей в России и за рубежом сильно отличаются?
– Да ничем. Нормальная медицина везде одинакова. Есть две классические медицинские школы: немецкая и англосаксонская. Россия всегда была ближе к немецкой – это изучение фундаментальных медицин. Время вносит свои поправки. Сейчас в католических странах большая проблема – работа с трупами. Там она практически под запретом. В мусульманских – то же самое. Ну а в целом объект познания один – это человеческое тело. Изучать его по-разному невозможно.
– Есть распространенное мнение, что уровень медицины в странах (будем пользоваться штампами) «первого мира» в среднем выше. А в России есть звезды, каких мало где встретишь, но средний уровень низкий.
– Часто наши соотечественники, которые едут лечиться за границу, путают уровень медицинской помощи и пейзаж за окном, обстановку в палате, дорогой антураж.
– Думаю, дело не только в антураже…
– Существует понятие «клинические рекомендации». Они интернациональны. Если говорить об онкологических заболеваниях, их везде лечат по одним схемам – в России, Германии, Америке, Израиле, если мы о грамотном лечении. Антураж – это деньги, направленные в здравоохранение. Соединенные Штаты вкладывают 16–17 % своего большого бюджета, а мы 4 % своего более скромного – ну, простите, разница и будет. Поэтому там «кадиллак», а у нас «запорожец», образно говоря. Но огульно утверждать, что там лучше?.. Общие условия, сервис – бесспорно. Какие-то технологии – да. Там раньше нас в широкое пользование пришли эндоскопические методы, роботы. Но «медицинские» мозги и руки хирурга – в этом, я считаю, мы не отстаем. И потом, нельзя путать общую медицину, государственную, и платные клиники. Нечасто же обсуждают, что в той же Германии люди среднего класса и ниже (народ, что называется) ждут приема у онколога, невролога, гастроэнтеролога по несколько недель или месяцев. Это считается нормальным. В Японии – то же самое. Никто не расстилает пациенту красные дорожки. Специалист доступен ограниченно. Нет представления, как у наших: я пришел, а люди с высокими знаниями, опытом сидят и ждут меня.
– Но ведь есть неотложная помощь. Ее надо получить немедленно, а не через неделю.
– Есть, но она тоже производится в разном объеме.
За Великую Отечественную войну в неотложной помощи мы накопили колоссальный опыт. Медикам удавалось вернуть в строй до 70 % раненых, и Берлин брали ребята, которые перенесли по одному-два ранения. А немцы опирались на сильную протезно-ортопедическую промышленность и в основном шли на ампутацию конечности. Поэтому людские ресурсы вермахта исчерпали себя значительно раньше. После войны там возникли серьезные проблемы с инвалидами, с протезированием, несмотря на развитость отрасли. Не все так линейно.
– Я сильно сомневаюсь, что в западных странах есть врачи, которые назначают гомеопатию.
– Бог с вами! Я плохо отношусь к гомеопатии, но она есть везде. И шарлатаны! И жулье есть!
– У меня самой в прошлом году был случай, связанный с подозрением на ковид, когда поликлинический врач сказала: «Зачем вам КТ? Сегодня сделаете КТ, а завтра умрете от рака».
– Процент дураков во всем мире примерно одинаков. Во всех специальностях.
– Но врачебное сообщество должно отсеивать их.
– Оно и отсеивает. Или вы хотите, чтобы такой врач тут же исчез? Так не бывает, но, я уверен, он не имеет перспектив для карьеры, не имеет шанса на уважение коллег – это однозначно. А дураки везде! Я и немцев дураков видал, и арабов, и евреев.
– Когда мы пожнем результаты 2020 года? Из-за ковида многие не проходили плановых осмотров.
– По-моему, мы их уже пожинаем, и этот след будет тянуться долго. Не могу сказать сколько – год, три или пять, но долго и очень всерьез. Это недоучтенные случаи, люди, не начавшие обследоваться. Есть заболевания, которые, если не лечить их немедленно, приближают инвалидность или летальный исход. Есть с более длительным сроком. И, конечно, мы будем пожинать плоды вакцинонегатива.
– Вопрос, который вам наверняка задавали тысячу раз: каков у нас уровень онкологических больных в сравнении с остальной Россией?
– Мы ничем не отличаемся от других индустриальных городов: Екатеринбурга, Москвы, Питера, Новосибирска. И в них, и у нас он существенно выше, чем в сельских районах. Но в области никакой экстремальной, необычной ситуации нет. Мы такие же, как все, и заболеваемость у нас существенно ниже, чем в странах, которые вы называете «первым миром».
– Почему?
– По многим причинам. Кстати, парадокс: высокая онкологическая заболеваемость – не всегда плохо. Известное выражение: «Каждый должен умереть от своего рака, но не каждый до него доживет». Успехи кардиологов, кардиохирургов сдвинули планку средней продолжительности жизни в Западной Европе, в Японии. Но человек смертен. Мы не хотим в это верить. Мы верим в силу денег, верим, что, если купить дорогую таблетку, лучше японскую, и выпить ее, будешь жить тысячу лет. Так не бывает. Даже члены списка Forbes умирают. Все.
– А будет такая таблетка когда-нибудь?
– Никогда не будет.
– Насколько еще реально увеличить продолжительность и качество жизни?
– Есть разные мнения, разные исследования. Называют цифру в 120, 150, 160 лет. Но таков закон природы: все биологические существа смертны. И Господь создал людей смертными. Адам и Ева могли жить вечно, но набедокурили.
– Как вы относитесь к биохакингу? Когда человек регулярно мониторит показатели организма и выравнивает их до нормы с помощью разных таблеток.
– Ерунда! Во-первых, откуда уверенность, что он смотрит именно те показатели, которые существенны? Есть вещи за пределами наших знаний. Ну и вход в биохакинг – это отказ от мирской жизни. Поэтому негативно отношусь. Был такой профессор – Коснесюн Наум Борисович, основатель офтальмологической школы в Челябинской области. Приходит к нему ученик, родственник мой: «Наум Борисович, вы чем-то расстроены?» – «Петя, очень расстроен. Всю жизнь я страшно любил яйца, я украинский еврей. Но не ел их, потому что боялся атеросклероза. А сегодня прочитал статью, что холестерин и атеросклероз никак не связаны». Обидно всю жизнь придерживаться диеты и заниматься биохакингом, а потом выяснить, что это ерунда. И умереть от того, что кирпич на голову упал.
– Есть ощущение, что рак молодеет. Это так?
– Абсолютно нет. Растут два фактора. Первое – общее количество онкологических больных – на 2,5–3 % в год. Такова плата за жизнь в цивилизованных условиях. Количество молодых пациентов тоже увеличивается пропорционально. Плюс когда от онкологического заболевания умирает тридцатилетняя девушка, у окружающих одно отношение к этому, а 85-летняя бабушка – другое. Смерть молодых воспринимается более остро.
– Вы следили за тем, как болел и умирал онколог Андрей Павленко? Который, узнав диагноз, стал детально рассказывать обо всех этапах лечения, своих ощущениях, вести видеоблог, колонку на сайте.
– Не следил, но слышал эту историю. То, что сделал Андрей Павленко, в каком-то смысле гражданский подвиг. Мне как врачу интересно понять, как болезнь воспринимается изнутри. И сам феномен – умирающий от рака врач-онколог, безусловно, трагичный. Но у каждого своя история жизни. Есть и другие похожие случаи, не столь публичные.
– Как, будучи врачом, жить с таким знанием?
– Слушайте, ну, жить вообще тяжело.
– Продавать пиво легче))
– Вот не пробовал! Сам пиво варю, а продавать – нет))
Я не знаю другой жизни. Наверное, когда слышишь свой диагноз, включается защитный механизм психики. Что точно могу сказать, профессия онколога заставляет и учит искренне любить жизнь во всех ее проявлениях. Солнышко, лето, бокал виски, сигара, девушка красивая…
– Как профилактировать рак? Не пить?
– Когда говорят о первичной профилактике рака, это химера. В саму биологию человека заложено три механизма апоптоза, самоликвидации: рак, диабет и атеросклероз. Ты как биологический объект погрелся на солнышке положенное количество лет, на травке погулял – и отодвинься, уступи следующим. А вот вторичная профилактика – раннее выявление, успешное лечение – дает эффект. Начиная с пресловутых профосмотров и кончая высокотехнологичными видами лечения.
– Насколько отличается лечение рака конца 90-х годов и сейчас?
– Появились совершенно новые классы химиопрепаратов, новый уровень лучевой терапии, много возможностей хирургического лечения. Пластическая хирургия пришла в онкологию. Здорово отличается! Хотя, в принципе, остались те же химиотерапия, лучевая терапия, хирургия.
– Не так давно я столкнулась с ранним уходом родственника. Он жил один, и его не сразу обнаружили. И я увидела, что происходит с человеком после смерти. Сейчас сижу и думаю: вы – онколог и видите смерть часто…
– Не настолько. Онкологические больные – это громадная группа людей, которые продолжают жить и развиваться. Их очень много среди нас. У нас в онкоцентре карты наблюдений больше девяноста тысяч человек. Они лечились три года, пять, десять лет назад и живут. О неудачах онколога, как правило, знают все. О позитиве мало кто информирован. Это Рейган мог сказать: у меня выявили рак толстой кишки, прооперировали, и я дальше приступаю к исполнению обязанностей. Нэнси Рейган могла основать ассоциацию американских женщин, перенесших мастэктомию. У нас, если онкологическое заболевание, у чиновника карьера закончена, бизнесмен начинает дербанить бизнес и так далее.
– В будущем что нас ждет?
– Осенью – выборы в Заксобрание, я участвую. А в целом, боюсь, будущее не настолько светлое. Как всегда, нас ждет много проблем. Нужно выйти из третьей волны ковида, восстановить систему после нее. Это будет тяжелее, чем после первой и второй. Впереди непонятные эпидемиологические пируэты. Ну и жизнь впереди. Но на легкую жизнь не стоит надеяться. Светлое будущее нужно самим искать. Вон за окном погода какая хорошая, солнышко… ///
– Самый важный итог – мы выдержали этот удар со всеми издержками и проблемами, которые были. А самые большие потери – наши погибшие коллеги. Это невосполнимая утрата, главная трагедия.
В то же время мы научились работать в условиях пандемии. Целое поколение, даже два поколения врачей у нас не сталкивались с массовыми инфекционными заболеваниями. Мы знали о них по книжкам, в теории, и таким вещам, как изоляция, карантин, маршрутизация пациентов, пришлось учиться заново. Приобрели, конечно, в самосознании. Оказалось, мы многое умеем, многое можем, но не все нам под силу. Вернулось смирение – не будем сейчас уходить в философию и теологию. В целом область достойно прошла через первый и второй пики. Мы научились разворачивать и сворачивать базы, возвращаться к нормальному режиму работы. Медицинское сообщество обогатилось знаниями. Единственное, они дались нам большой кровью и трудом.
Челябинская область – только один из регионов Российской Федерации, и нам свойственны все проблемы, которые есть в отечественном здравоохранении. Мы не Москва, но и не Курганская область, где я недавно был. Мы обладаем технологиями и научной школой. У нас высокий кадровый потенциал, интеллектуальный, но проблема с медицинским персоналом остается – дефицит налицо. Существенное количество учеников после окончания вуза не доезжают до места будущей работы. Кстати, один из ударов ковида – много врачей солидного возраста выбыло из строя в силу болезни или боязни за свою жизнь. Это тоже понятно, они правильно поступили.
Особенно сильно нехватка кадров ощущается в первичном звене, от которого зависит вся остальная пирамида. Если на начальном уровне не будут выявлять сердечно-сосудистые заболевания, онкологию в ранних стадиях, тогда нашим высокотехнологичным клиникам нечего будет делать. Еще хочу сказать: сколько бы ни ругали профосмотры, они дают результат. Не тот, который ожидалось, но работают достоверно хорошо.
– Что сделать, чтобы эффект стал лучше?
– Проблема многофакторная и не только и не столько медицинская. Когда на человека обрушивается куча ложной, антинаучной информации, это накладывает свой отпечаток нигилизма на отношение ко многим вещам. Добавьте падение образовательного уровня, массовое невежество – особенно в интернете. Заглянешь туда – волосы встают дыбом.
– Не читайте до обеда советских газет…
– Абсолютно верно, но читают. Читают! Плюс безалаберное отношение к своему здоровью. Плюс – менталитет. Посмотрите на героев русских народных сказок. Наш человек – это не храбрый портняжка, а Иван-дурак, который или удачно женился на царевне, или поймал жар-птицу, или щуку вытащил. А если уж он идет за тридевять земель, стирает семь пар сапог, то ради того, чтобы всю оставшуюся жизнь ничего не делать. В этом наша особенность. Нас сложно вытянуть на профилактические мероприятия. Извращенная система страховой медицины только усугубляет положение. Мне довелось много поездить по миру. Еще в 1991 году молодым доктором я учился в Голландии, и меня поразило, как там все устроено. Нет никаких профосмотров. Ты работаешь, приходит карточка: «Сходить к пульмонологу». Можно не ходить? Можно, но сумма страхового взноса вырастет, а работодатель получит сигнал, что ты – безответственный человек. Родился маленький голландец – мамаша везет его на прививки, а не рассуждает на уровне домохозяйки, нужны они или нет. Прописано – надо делать. Если все выполнит и государство потратит на ребенка мало денег, мамаше положена премия, а оставшаяся у страховщика сумма идет на ребят, которые действительно нуждаются в помощи.
– Меня удивляет поколение сорокалетних. Нам все детство кололи прививки, и никто не задавался вопросом, что нам колют, кем разработана данная вакцина и сколько лет шли испытания. И вот теперь, начитавшись «советских газет» и будучи не в состоянии разобраться, где правда, где ложь, мы делаем выводы в сфере, в которой компетентность приобретается годами учебы и практики.
– Понимание границ своей компетентности – один из главных признаков наличия ума. Квалифицированные люди должны принимать решения, остальные – признавать их авторитет. Я сейчас ехал по дороге, стоит регулировщик. Все подчиняются жестам этого знающего и ответственного человека. Если каждый поедет, когда сам захочет, будет то, что мы наблюдаем сейчас в ситуации с вакцинированием.
– Налицо кризис власти, отсутствие доверия к ней. В этой проблеме мало медицины. Хочу поговорить вот о чем: когда родился сын, я искала ему врача, с которым мне было бы комфортно и которому бы, главное, я доверяла. Нашла. Много лет мы буквально жили вместе. Однажды в выходной день сын заболел, а я не могла до нее дозвониться и повезла его в поликлинику. В понедельник я показала назначение нашему доктору – удостовериться, все ли так. Она сказала: «Да, все профессионально, молодцы. Я только чуть-чуть внесу коррективы». И в итоге заменила весь список. Спустя какое-то время я брала у нее интервью, мы вспомнили этот случай, и она объяснила: «Знаешь, в чем дело: те, кто работают в поликлиниках, назначают лечение, но не знают, каковы у него бывают последствия. С последствиями имеем дело мы, те, кто принимают тяжелых больных в стационаре». Теперь вопрос: а что делать-то с этим начальным звеном, которое, как мне кажется, у нас самое слабое?
– Согласен с вами. То, что мы имеем, отражает отношение общества к здравоохранению. Появился ужасный термин – «медицинская услуга». (Даже в Библии написано: «В начале было Слово».) Но медицина – никакая не услуга. Услуга – коммерческое понятие, вещь, которую легко тиражировать: пришел в ресторан – тебе предложили шницель такой, сякой. А мы оказываем помощь, это совсем другая философия. В советское время все привыкли, что здравоохранение, образование вроде бы ничего не стоят, даются «с неба». И если надо было сократить расходы, то забирали именно оттуда. Начальное звено – самая уязвимая когорта медицинских работников. Сейчас делаются попытки исправить ситуацию: подъемные, губернаторские стипендии, программа «Сельский доктор». Но унифицированного инструмента пока нет. Понимаете, врач – это не продавец газированной воды. Ребята поступают в вуз, и практически каждый из них хочет стать Пироговым, Мясниковым, Склифосовским… Сюда идут не за деньгами.
– Но мы ведь знаем примеры, когда известные врачи, становились основателями частных клиник, получали коммерческий успех…
– Такое бывает, но это явление второстепенное. Исходные вещи – врачевание и профессиональные амбиции, карьера. У нас в России, перемещаясь в пространстве, мы перемещаемся еще и во времени. Вот прилетели вы домой из Москвы – хоп, и попали на пятнадцать лет назад. Из Челябинска уехали в Миасс – еще минус пятнадцать. Я говорю про окружающий мир целиком, в котором молодой доктор вынужден жить с семьей, про качество жизни. Оно не должно иметь такой разрыв между мегаполисами и другими городами, иначе последние окажутся без специалистов.
Да, сейчас ужесточают юридические рамки для «целевиков», которых территория направляет на обучение. Раньше договоры были мягкие, стали жестче. В какой-то степени это попытка вернуться к системе распределения. В ней я не вижу ничего плохого. При советской власти было больше разумного капитализма, чем сегодня. Что такое диплом о высшем образовании? Это беспроцентный кредит, который тебе дало общество, и ты должен его вернуть. Пока же выходит, что ты взял его даром и рассуждаешь о каких-то правах человека.
– Качество образования, которое в этих стенах дают сейчас, как вы оцениваете?
– Испокон веков в медицинский вуз был самый высокий конкурс и балл ЕГЭ (единый госэкзамен можно и нужно критиковать, но пока у нас есть только этот индикатор). И уровень нашего образования сохранился достаточно высоким, среди других регионов с медицинскими вузами в Южно-Уральском медуниверситете оно наиболее качественное. Безусловно, выпускник не равен в своих возможностях врачу с двадцатилетним стажем из хорошей клиники, врач учится всю жизнь. Но это человек с хорошей базой. Ему объективно можно доверить работу.
– Почему вы плохо относитесь к частной медицине?
– Я не отношусь плохо, но это не мое. Мне ближе масштабная государственная система здравоохранения. Частная медицина имеет место быть, но это рынок.
– Весь мир так живет.
– Почему? Весь мир живет на страховой и государственной медицине. Какие американцы лечатся в частных клиниках? Немцы, англичане? Все по страховке. Существует ряд глобальных вопросов, которые частная медицина решить не может. Будет ли она заниматься туберкулезом?
– Почему нет?
– Частная медицина – род бизнеса для получения прибыли. Бизнес решает только собственные, а не социальные задачи, и никогда не пойдет туда, где нет денег. Частная медицина не закроет пробелы, которые есть, хотя и работает с нами на одном поле. Система здравоохранения приносить прибыль не может. Если говорить прямо, мы в чем-то бодаемся с Господом. Этот парень говорит: «Давай я тебя к себе заберу», а врачи вмешиваются: «Погоди, он еще с нами побудет». Вот философски о чем идет речь. Косметология, еще что-то – могут быть частными, но это услуги.
– Меня всегда удивляют иконы в кабинете врачей. Казалось бы, кто лучше врача знает…
– Был такой доктор, хирург, профессор, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Его же вы сейчас видите на иконе – это архиепископ Лука. Жертва сталинских репрессий (одиннадцать лет лагерей) и лауреат Сталинской премии за работу по нейрохирургии – все соединилось в одном человеке. Приглашенный однажды в качестве эксперта на скорый революционный суд, он так ответил на вопрос общественного обвинителя: «Поп и профессор Войно-Ясенецкий, разве вы его видели, своего Бога?» – «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил».
Есть вещи малообъяснимые, видимо, в силу недостаточности наших знаний. Их можно по-разному называть. Сам я – верю. Религиозное учение интересно мне и философски. Вот эта иконка – из православного монастыря в Вене. Везде в библейских сюжетах мы видим Марию и Христа, мать и сына. Но совершенно за бортом остается Иосиф, отец. Вот этот монастырь посвящен взаимоотношениям отцов и детей, роли отца, феномену Иосифа, который воспитывал ребенка, взявшегося непонятно откуда. Поэтому, понимаете, кто бы что ни говорил, но православная религиозная доктрина несет в себе квинтэссенцию человеческого опыта, философской мысли, житейского знания. И от этого уйти нельзя.
– То есть это не вера в мироустройство, а больше уважение к религиозной мысли?
– Провести границу между верой и мироустройством очень сложно, это вещи неразъединимые. Возьмем даже физику, любимую мной. Стивена Хоккинга читали? Парень – наш современник. Очень интересно пишет! Нашими органами чувств мы можем воспринимать порядка четырех процентов мира, в котором живем. Девяносто шесть остаются, что называется, за кадром. Это темная материя, то, что для нас недоступно. Кто его знает, как влияют на нас эти девяносто шесть процентов?
– Вернусь к медицине. Какие первостепенные задачи вы ставите перед собой и командой?
– Первостепенны чисто утилитарные, прикладные задачи. Увеличить доезд выпускников до места работы. В области науки – возродить кооперацию с вузами других специальностей. Вернуть ситуацию, когда вуз выступает инициатором научных конгрессов и конференций, чтобы не мы шли за больницами, а больницы за нами, как должно быть. Сейчас пока не так. В целом надо активизировать научно-педагогическую деятельность в клиническом аспекте и решить вопрос о профессиональном пути выпускников. Продавец пива с медицинским дипломом – это, наверное, интеллектуально и красиво, но едва ли рационально и полезно для общества.
– В одном из интервью вы упомянули про медиков новой формации. Какой смысл вы вкладываете в это выражение?
– Когда я учился, к нам из Ашхабада приехал молодой профессор Николай Иванович Тарасов. Он потом создал здесь онкоурологическую школу, мы много лет вместе работали, дружили. Вот он говорил (это был 1981 год), что для успехов в нынешней жизни молодой человек или девушка должны уметь печатать на машинке (тот же компьютер), знать иностранный язык, фотографировать и уметь плавать – для души, для тела. В общем-то, эти параметры сохранились. Медицине нужен человек, мобильно пользующийся знаниями. Естественно, в это понятие входят интернет, английский язык, возможно, даже китайский – из КНР идут большие потоки информации. Плюс высокая обучаемость, коммуникабельность и устойчивость к влиянию окружающего мира, бреду, который идет с экранов. Те же вакцинонегативные медики толерантны к агрессивной информационной среде, а врач должен быть образованным, способным отделять зерна от плевел.
– Подходы к обучению врачей в России и за рубежом сильно отличаются?
– Да ничем. Нормальная медицина везде одинакова. Есть две классические медицинские школы: немецкая и англосаксонская. Россия всегда была ближе к немецкой – это изучение фундаментальных медицин. Время вносит свои поправки. Сейчас в католических странах большая проблема – работа с трупами. Там она практически под запретом. В мусульманских – то же самое. Ну а в целом объект познания один – это человеческое тело. Изучать его по-разному невозможно.
– Есть распространенное мнение, что уровень медицины в странах (будем пользоваться штампами) «первого мира» в среднем выше. А в России есть звезды, каких мало где встретишь, но средний уровень низкий.
– Часто наши соотечественники, которые едут лечиться за границу, путают уровень медицинской помощи и пейзаж за окном, обстановку в палате, дорогой антураж.
– Думаю, дело не только в антураже…
– Существует понятие «клинические рекомендации». Они интернациональны. Если говорить об онкологических заболеваниях, их везде лечат по одним схемам – в России, Германии, Америке, Израиле, если мы о грамотном лечении. Антураж – это деньги, направленные в здравоохранение. Соединенные Штаты вкладывают 16–17 % своего большого бюджета, а мы 4 % своего более скромного – ну, простите, разница и будет. Поэтому там «кадиллак», а у нас «запорожец», образно говоря. Но огульно утверждать, что там лучше?.. Общие условия, сервис – бесспорно. Какие-то технологии – да. Там раньше нас в широкое пользование пришли эндоскопические методы, роботы. Но «медицинские» мозги и руки хирурга – в этом, я считаю, мы не отстаем. И потом, нельзя путать общую медицину, государственную, и платные клиники. Нечасто же обсуждают, что в той же Германии люди среднего класса и ниже (народ, что называется) ждут приема у онколога, невролога, гастроэнтеролога по несколько недель или месяцев. Это считается нормальным. В Японии – то же самое. Никто не расстилает пациенту красные дорожки. Специалист доступен ограниченно. Нет представления, как у наших: я пришел, а люди с высокими знаниями, опытом сидят и ждут меня.
– Но ведь есть неотложная помощь. Ее надо получить немедленно, а не через неделю.
– Есть, но она тоже производится в разном объеме.
За Великую Отечественную войну в неотложной помощи мы накопили колоссальный опыт. Медикам удавалось вернуть в строй до 70 % раненых, и Берлин брали ребята, которые перенесли по одному-два ранения. А немцы опирались на сильную протезно-ортопедическую промышленность и в основном шли на ампутацию конечности. Поэтому людские ресурсы вермахта исчерпали себя значительно раньше. После войны там возникли серьезные проблемы с инвалидами, с протезированием, несмотря на развитость отрасли. Не все так линейно.
– Я сильно сомневаюсь, что в западных странах есть врачи, которые назначают гомеопатию.
– Бог с вами! Я плохо отношусь к гомеопатии, но она есть везде. И шарлатаны! И жулье есть!
– У меня самой в прошлом году был случай, связанный с подозрением на ковид, когда поликлинический врач сказала: «Зачем вам КТ? Сегодня сделаете КТ, а завтра умрете от рака».
– Процент дураков во всем мире примерно одинаков. Во всех специальностях.
– Но врачебное сообщество должно отсеивать их.
– Оно и отсеивает. Или вы хотите, чтобы такой врач тут же исчез? Так не бывает, но, я уверен, он не имеет перспектив для карьеры, не имеет шанса на уважение коллег – это однозначно. А дураки везде! Я и немцев дураков видал, и арабов, и евреев.
– Когда мы пожнем результаты 2020 года? Из-за ковида многие не проходили плановых осмотров.
– По-моему, мы их уже пожинаем, и этот след будет тянуться долго. Не могу сказать сколько – год, три или пять, но долго и очень всерьез. Это недоучтенные случаи, люди, не начавшие обследоваться. Есть заболевания, которые, если не лечить их немедленно, приближают инвалидность или летальный исход. Есть с более длительным сроком. И, конечно, мы будем пожинать плоды вакцинонегатива.
– Вопрос, который вам наверняка задавали тысячу раз: каков у нас уровень онкологических больных в сравнении с остальной Россией?
– Мы ничем не отличаемся от других индустриальных городов: Екатеринбурга, Москвы, Питера, Новосибирска. И в них, и у нас он существенно выше, чем в сельских районах. Но в области никакой экстремальной, необычной ситуации нет. Мы такие же, как все, и заболеваемость у нас существенно ниже, чем в странах, которые вы называете «первым миром».
– Почему?
– По многим причинам. Кстати, парадокс: высокая онкологическая заболеваемость – не всегда плохо. Известное выражение: «Каждый должен умереть от своего рака, но не каждый до него доживет». Успехи кардиологов, кардиохирургов сдвинули планку средней продолжительности жизни в Западной Европе, в Японии. Но человек смертен. Мы не хотим в это верить. Мы верим в силу денег, верим, что, если купить дорогую таблетку, лучше японскую, и выпить ее, будешь жить тысячу лет. Так не бывает. Даже члены списка Forbes умирают. Все.
– А будет такая таблетка когда-нибудь?
– Никогда не будет.
– Насколько еще реально увеличить продолжительность и качество жизни?
– Есть разные мнения, разные исследования. Называют цифру в 120, 150, 160 лет. Но таков закон природы: все биологические существа смертны. И Господь создал людей смертными. Адам и Ева могли жить вечно, но набедокурили.
– Как вы относитесь к биохакингу? Когда человек регулярно мониторит показатели организма и выравнивает их до нормы с помощью разных таблеток.
– Ерунда! Во-первых, откуда уверенность, что он смотрит именно те показатели, которые существенны? Есть вещи за пределами наших знаний. Ну и вход в биохакинг – это отказ от мирской жизни. Поэтому негативно отношусь. Был такой профессор – Коснесюн Наум Борисович, основатель офтальмологической школы в Челябинской области. Приходит к нему ученик, родственник мой: «Наум Борисович, вы чем-то расстроены?» – «Петя, очень расстроен. Всю жизнь я страшно любил яйца, я украинский еврей. Но не ел их, потому что боялся атеросклероза. А сегодня прочитал статью, что холестерин и атеросклероз никак не связаны». Обидно всю жизнь придерживаться диеты и заниматься биохакингом, а потом выяснить, что это ерунда. И умереть от того, что кирпич на голову упал.
– Есть ощущение, что рак молодеет. Это так?
– Абсолютно нет. Растут два фактора. Первое – общее количество онкологических больных – на 2,5–3 % в год. Такова плата за жизнь в цивилизованных условиях. Количество молодых пациентов тоже увеличивается пропорционально. Плюс когда от онкологического заболевания умирает тридцатилетняя девушка, у окружающих одно отношение к этому, а 85-летняя бабушка – другое. Смерть молодых воспринимается более остро.
– Вы следили за тем, как болел и умирал онколог Андрей Павленко? Который, узнав диагноз, стал детально рассказывать обо всех этапах лечения, своих ощущениях, вести видеоблог, колонку на сайте.
– Не следил, но слышал эту историю. То, что сделал Андрей Павленко, в каком-то смысле гражданский подвиг. Мне как врачу интересно понять, как болезнь воспринимается изнутри. И сам феномен – умирающий от рака врач-онколог, безусловно, трагичный. Но у каждого своя история жизни. Есть и другие похожие случаи, не столь публичные.
– Как, будучи врачом, жить с таким знанием?
– Слушайте, ну, жить вообще тяжело.
– Продавать пиво легче))
– Вот не пробовал! Сам пиво варю, а продавать – нет))
Я не знаю другой жизни. Наверное, когда слышишь свой диагноз, включается защитный механизм психики. Что точно могу сказать, профессия онколога заставляет и учит искренне любить жизнь во всех ее проявлениях. Солнышко, лето, бокал виски, сигара, девушка красивая…
– Как профилактировать рак? Не пить?
– Когда говорят о первичной профилактике рака, это химера. В саму биологию человека заложено три механизма апоптоза, самоликвидации: рак, диабет и атеросклероз. Ты как биологический объект погрелся на солнышке положенное количество лет, на травке погулял – и отодвинься, уступи следующим. А вот вторичная профилактика – раннее выявление, успешное лечение – дает эффект. Начиная с пресловутых профосмотров и кончая высокотехнологичными видами лечения.
– Насколько отличается лечение рака конца 90-х годов и сейчас?
– Появились совершенно новые классы химиопрепаратов, новый уровень лучевой терапии, много возможностей хирургического лечения. Пластическая хирургия пришла в онкологию. Здорово отличается! Хотя, в принципе, остались те же химиотерапия, лучевая терапия, хирургия.
– Не так давно я столкнулась с ранним уходом родственника. Он жил один, и его не сразу обнаружили. И я увидела, что происходит с человеком после смерти. Сейчас сижу и думаю: вы – онколог и видите смерть часто…
– Не настолько. Онкологические больные – это громадная группа людей, которые продолжают жить и развиваться. Их очень много среди нас. У нас в онкоцентре карты наблюдений больше девяноста тысяч человек. Они лечились три года, пять, десять лет назад и живут. О неудачах онколога, как правило, знают все. О позитиве мало кто информирован. Это Рейган мог сказать: у меня выявили рак толстой кишки, прооперировали, и я дальше приступаю к исполнению обязанностей. Нэнси Рейган могла основать ассоциацию американских женщин, перенесших мастэктомию. У нас, если онкологическое заболевание, у чиновника карьера закончена, бизнесмен начинает дербанить бизнес и так далее.
– В будущем что нас ждет?
– Осенью – выборы в Заксобрание, я участвую. А в целом, боюсь, будущее не настолько светлое. Как всегда, нас ждет много проблем. Нужно выйти из третьей волны ковида, восстановить систему после нее. Это будет тяжелее, чем после первой и второй. Впереди непонятные эпидемиологические пируэты. Ну и жизнь впереди. Но на легкую жизнь не стоит надеяться. Светлое будущее нужно самим искать. Вон за окном погода какая хорошая, солнышко… ///