Текст: Анастасия Еговцева
Фото: Иван Карлышев
Фото: Иван Карлышев
ОПЕРЕЖАЯ ИДЕИ
Появление на мировом
и отечественном рынках ESG-подхода, который выбирают компании, нацеленные поддерживать экологию, социальную ответственность
и управление кадрами, внесло свои коррективы в работу промышленных предприятий. Металлургические гиганты и энергетики всерьез задумываются о сокращении вредных отходов в окружающую среду
и поэтому открыты для перспективного сотрудничества с компаниями, занимающимися очисткой воды
и воздуха.
и отечественном рынках ESG-подхода, который выбирают компании, нацеленные поддерживать экологию, социальную ответственность
и управление кадрами, внесло свои коррективы в работу промышленных предприятий. Металлургические гиганты и энергетики всерьез задумываются о сокращении вредных отходов в окружающую среду
и поэтому открыты для перспективного сотрудничества с компаниями, занимающимися очисткой воды
и воздуха.
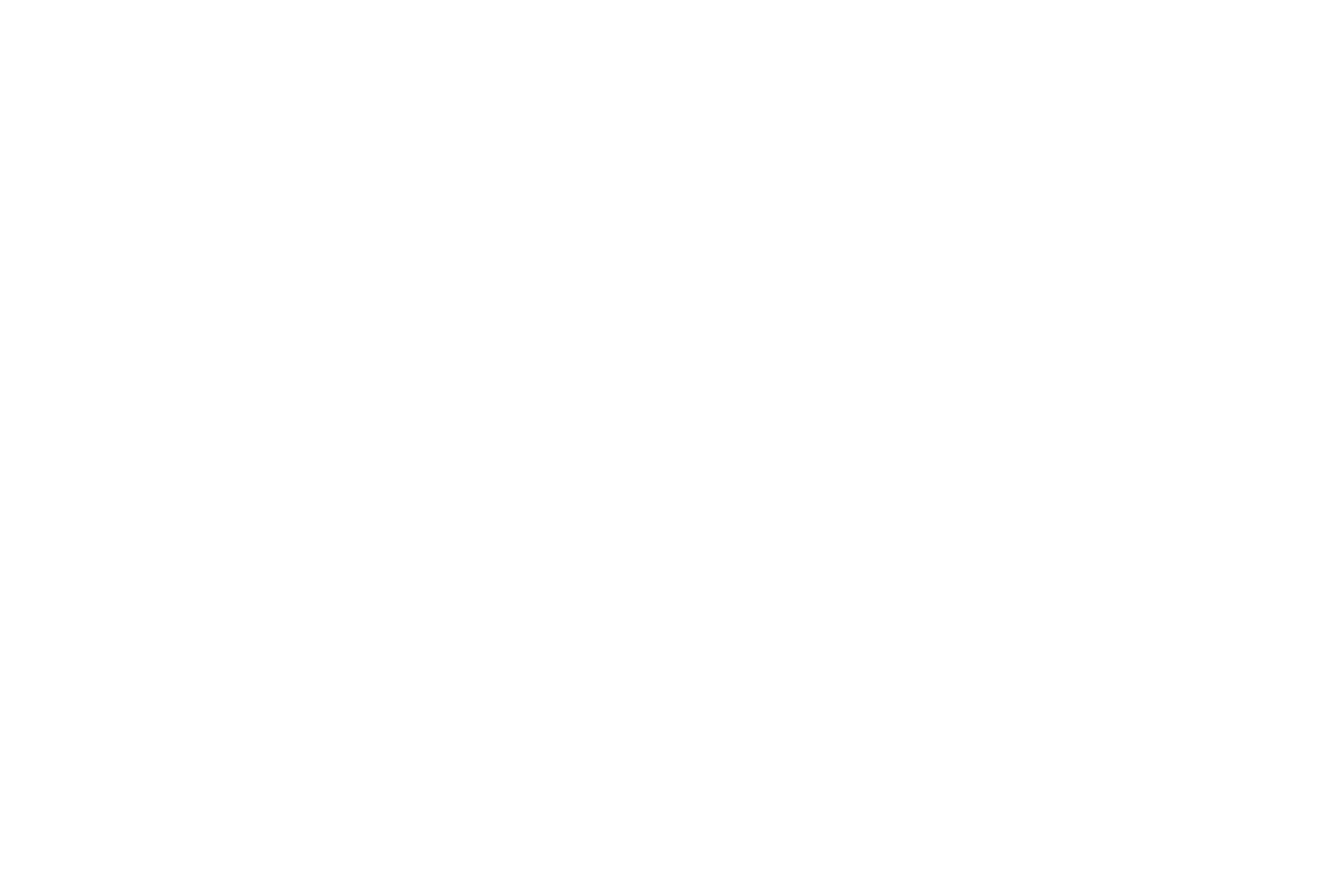
Денис Винник
директор НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии», заведующий кафедрой «материаловедение и физико-химия материалов»
директор НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии», заведующий кафедрой «материаловедение и физико-химия материалов»
Еще один тренд – строительство и развитие индустриальных парков. Инвесторы ищут злачные места, а потенциальные арендаторы – промышленные площадки под ключ, где можно получить неплохие льготы. Потенциал технопарков очевиден для многих участников рынка.
Мы поговорили с Евгением Ереминым, генеральным директором группы компаний «Курс», о тренде на строительство индустриальных парков, об участии компании в новом экологическом проекте и о том, возможно ли изменить культуру ведения бизнеса в сторону «честной игры». Об этом и многом другом – в нашем интервью.
– В одном из подразделений нашего НИИ, «Научно-образовательном центре нанотехнологий», основанном в 2008 году, мы создаем функциональные, конструкционные материалы, а также проводим исследования химического состава, структуры, морфологии и частично свойств материалов.
У нас есть ряд интересных проектов, в основном они касаются академической составляющей, но один из них – яркий пример взаимодействия науки с реальным сектором экономики. я говорю о сотрудничестве с группой компаний «Курс» и совместной разработке материалов. Евгений Михайлович очень увлечен реализацией этого проекта. «Курс» заинтересован в прикладных исследованиях, их переходе в опытно-конструкторские разработки и последующее внедрение. А мы в рамках сотрудничества как раз предлагаем материал, разработанный внутри университета, с тем чтобы на взаимовыгодных условиях обеспечить его внедрение на предприятиях металлургического или машиностроительного комплекса в рамках очистных сооружений сточных вод и объектов энергетики.
– Два года назад, во время прошлого интервью, вы говорили, что бизнес-суета отнимает много времени от планирования стратегии. Пандемия дала вам необходимое время, чтобы заняться данными вопросами, или принесла больше проблем?
– Переосмысление того, как вести бизнес, произошло однозначно. На рынке стало меньше конкуренции, некоторые компании не выдержали новых условий, в которых работать стало гораздо сложнее. Во-первых, болеют люди, я сам переболел, и это накладывает серьезный отпечаток на здоровье и трудовые способности. Во-вторых, вопросы с заказчиками теперь решаются по удаленке, это не всегда удобно. Зато мы научились общаться друг с другом, вести переписку, проводить онлайн-конференции. Теперь можно поучаствовать в любом заседании, не вставая с рабочего места, при этом отдача та же: ты видишь всех участников, выстраиваешь с ними контакты, не тратя время и энергию на перемещения. Конечно, потом все равно встречаемся вживую, чтобы обсудить дальнейшие совместные решения.
В глобальном смысле наша стратегия сейчас меняется. Избавляемся от тех направлений, которые не смогли доказать свою эффективность.
– На чем сейчас вы максимально сфокусированы?
– В последнее время внимание рассредоточено на несколько проектов. Недавно провели реконструкцию на территории индустриального парка «Потанино», появились первые арендаторы. К нам идут клиенты с НИОКРами (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами), с ЮУрГУ занимаемся экологическим проектом. Сегодня эта тема как никогда актуальна, и в ней есть возможности зарабатывать деньги. Для одной из крупных энергетических компаний проводим испытания по очистке воды от меди на ТЭЦ, это одно из приоритетных направлений их организации – экологизация производства. Первые результаты уже есть, надеюсь, у нас все получится.
– Перечисленные вами направления такие разные. Как вы погружаетесь в тему с ними, для этого, наверное, требуются определенные компетенции?
– Конечно, для этого нужно в первую очередь самому изучать все, смотреть. Но я сторонник того, что все знать невозможно. И если ты подобрал надежных партнеров с хорошими компетенциями, выстроил правильное взаимодействие, то результат не заставит долго ждать. По такому пути мы и идем. В течение пяти лет мы пытались реализовать проект с ЮУрГУ, но не могли найти точки соприкосновения. Но как только в университет пришла новая молодая команда, нацеленная на результат, процесс сразу сдвинулся.
По ТЭЦ была другая история. Мы выиграли тендер на строительство очистных сооружений на электростанции. Когда начали подробно изучать техзадание, возникли сомнения из-за жестких санкций: мы можем построить объект, но если результата он не даст, деньги нам никто не заплатит, а мы должны будем выплатить штраф. Поэтому мы полтора года «готовились», проводили НИОКРы. «Перелопатили» около шестидесяти компаний, чтобы провести совместные испытания на ТЭЦ и доказать заказчику, что техзадание, которое сформулировано, не работает и результата не даст. Как итог – мы добавили дополнительную ступень очистки, что привело нас к нужному эффекту. Заказчик сначала выставил нам штраф за самодеятельность на 65 миллионов, а потом мы смогли их переубедить. Санкции с нас сняли, затраты по минимуму покрыли.
– Затраты – это те средства, которые вы потратили на проведение НИОКРов?
– Частично – да. Недавно разыграли новый тендер, в нем участвовали мы и немцы, которые декларировали потрясающий результат и предлагали цену значительно ниже. Тем не менее выбрали нас, потому что мы себя зарекомендовали как проффесионалы, к нам сформировалось доверие. К ноябрю-декабрю должны завершить испытания, установки уже смонтированы, работают, программа полностью проработана. Помимо этого, проводим исследования по применению сорбента, который разрабатываем вместе с ЮУрГУ.
– Значит, вы будете строить очистные сооружения, которые будут задерживать и забирать медь из отработанной воды?
– Не только медь, еще железо и нефтепродукты. Дело в том, что, кроме этих компонентов, в воде есть множество других примесей, и избавляться от них из такой сложной субстанции как Н2О довольно трудно. По требованиям предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воде не должна превышать одну тысячную миллиграмма на литр. Благодаря системе очистки предприятия сбрасывают воду на два порядка чище, чем та, которую мы забираем из водоемов для потребления. Такие вот реалии.
Так или иначе свою задачу мы выполняем. Первые испытания дают результат – меди в воде нет. Сейчас добиваемся того, чтобы наша опытная установка достигла производительности очистки 250 кубов за час.
Плюс сейчас с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК) и «Русской медной компанией» (РМК) ведем переговоры о том, чтобы при помощи сорбента провести на их территориях пробную очистку воды от тяжелых металлов.
– Получается, это практическое применение научных разработок?..
– Да, те самые, от ЮУрГУ, как раз стараемся внедрить их, хоть это и непростой путь. Уже в сентябре мы планируем подписать договор на проведение НИОКРа на УГМК. Мы уже провели лабораторное испытание, взяли пробы грунта и воды на пяти точках в Свердловской области. Получили классный результат, сорбенты работают! Отправили отчеты свердловчанам, первый этап завершен. Следующий – провести исследования непосредственно на их площадках, чтобы посмотреть, как будет вести себя сорбент на разных стадиях.
Первая – очистка воды в статическом состоянии. Набираем емкость, опускаем в нее сорбент и наблюдаем, насколько эффективно он вбирает в себя металлы. Вторая стадия – в динамике, когда обработку будет проходить проточная вода.
Самое сложное – это очистка почвы. Как проходит ее рекультивация? Мы либо насыпаем сорбент сверху, либо бурим землю и загружаем его внутрь. Технологии разные, мы еще смотрим, наблюдаем, какой способ выбрать. Мало того, на него еще нужно получить экологический и санитарно-гигиенический сертификаты. И многое другое…
– Сколько средств вы инвестируете в эти технологии?
– Несколько миллионов. Обычно как мы выстраиваем взаимоотношения? Говорим партнерам: «Ребята, давайте мы проведем опытные испытания каждый за свои деньги, а потом объединимся вместе в консорциум, будем зарабатывать на промышленных проектах».
– С кем вместе?
– Допустим, по «Фортуму» мы пробовали работать с разными компаниями, в том числе с ребятами из Москвы и Томска, но в итоге заключили соглашения с Петербургом и Екатеринбургом. Наши партнеры – технологи, производители оборудования, им это интересно, ведь если они освоят новые методы очистки, то дальше будут подключаться к серьезным бизнес-проектам. Взять, к примеру, работу с ЮУрГУ. Они дают нам рецептуру, а мы вместе с компанией, которая занимается производством пеностекла (они, кстати, размещаются у нас в технопарке «Потанино»), будем производить сорбент по технологии университета. Сейчас мы вместе с ними заключаем договор, проводим пробные испытания, обсуждаем варианты сотрудничества – либо организуем совместное предприятие, либо на каких-то других условиях будем взаимодействовать. Предварительно мы все обсудили, собственник не против подобного формата работы.
Такова наша стратегия: инвестируем небольшие средства, собираем партнеров, кому интересно осваивать это направление, а дальше смотрим, как раскрутить эту тему в бизнес. А действовать в одиночку бессмысленно. Ну, купим мы оборудование за семьдесят миллионов, начнем действовать – а результата нет. а мы уже средства зря потратили…
– Как вы считаете, такие гиганты, как УГМК и РМК, много ли сил, средств и времени тратят на экологические проекты?
– В последнее время бизнес стал чаще задумываться о социальной ответственности. И это верное решение. С точки зрения экологии требования ужесточились, власть начала регулировать эти вещи и поощрять инициативы, активно спонсировать проекты по уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Конечно, на этом фоне появляется много шарлатанов, которые обещают отличный результат, а на деле просто обманывают. Такое происходит нередко, когда идея отличная, но ее исполнение ужасно. Не последнюю роль играет в этом человеческий фактор. Поэтому сейчас важно не просто заниматься такими проектами, а делать их качественно и эффективно.
– Все, что мы обсудили, – это работа на будущее, а чем вы заняты сейчас? Что дает вам хлеб на сегодняшний день?
– Строительство, основные доходы оттуда, часть из них дотирую в «Челябтяжмашпроект». С учетом того, что у нас много направлений, я решил ликвидировать эти дотации: выживут – хорошо, не выживут – это уже другой вопрос. Многие институты закрылись, и прекращать проектную деятельность для меня очень болезненно. Если в 2008 году мы говорили, что это наш флагман, наша история, наша гордость, то сейчас он нам в тягость. придется оптимизировать, в том числе и ейский проект по строительству 34 коттеджей придется заморозить. Мы работали в этих сферах факультативно: время от времени есть заказы – ну и славно. Сейчас я вижу перспективы в экологической теме.
– Какие сейчас тенденции в коммерческом и промышленном строительстве?
– Коммерческое строительство уходит в сторону логистики и помещений для онлайн-торговли и крупных ретейлеров. Это и склады, и дарксторы, и логистические комплексы, которые оснащены всем необходимым. Они строятся в большом количестве, например, для Ozon и AliExpress. Сбер тоже не остается в стороне. Причем Челябинская область никогда не была востребована в этом плане, в основном бурно развивался Екатеринбург. Теперь заинтересовались и нами.
– А как поживает индустриальный парк?
– На территории браунфилд (технопарка «Потанино») мы уже реконструировали семь тысяч квадратных метров, осталось доделать столько же. Все площадки уже сданы в аренду. Пока у нас крупных арендаторов пять, скоро один большой полностью займет достраиваемую площадку.
– Эта тема востребована?
– Конечно, и бум на открытие предприятий можно было спрогнозировать. Вот смотрите. Какая у нас раньше парадигма была? Потребительская – продаешь нефть, покупаешь готовую продукцию за рубежом. Так сложилось, что промышленность была разрушена. сейчас пришло время возрождать ее и строить новые заводы.
Недавно ездили в Ханты-Мансийский автономный округ, у них тоже востребованы индустриальные парки. Смотрели их площадки, они тоже проводят реконструкцию и сдают в аренду участки, кроме того, получают деньги по федеральной программе на компенсацию этого строительства. Молодцы, ребята! Это показатель, что процессы развития промышленности параллельно развиваются по всей стране.
– Конкурент вашего партнера по проекту ТЭЦ, который снабжает электричеством соседний с Челябинском Курган, активно застраивает индустриальный парк у себя в Зауралье. В нем разместились три якорных предприятия, все они принадлежат энергокомпании.
– Классика! Когда «Конар» построил свой первый индустриальный парк в Челябинске, Валерий Вячеславович разместил там все свои производства. Почему? Все просто – территория дает льготы, для компании это форма оптимизации активов. Бондаренко восстановил старые здания (как мы в «Потанино») на «Станкомаше», там же поселил совместное производство «Конара» с итальянцами – «СПК-Чимолаи». Потом он понял: зачем подстраиваться под рамки реконструированных цехов, когда можно создать площади по тем критериям, которые нужны именно им? Теперь они сносят старое здание и строят новое.
А вот инфраструктуру следует продумывать заранее…
– О чем это вы?
– Мы предлагали им свои услуги в качестве проектировщиков – спрогнозировать объем площадей с прицелом на будущее, продумать всю инфраструктуру к ним. Не знаю, как сейчас, но раньше стратегия «Конара» была такова: «Мы не знаем, что ждет нас завтра, поэтому, зачем сейчас все это закладывать?» Говорю им: «Возьмите с запасом, зачем каждый раз к цеху новую подстанцию или котельную строить?» Все-таки инженерная мысль должна опережать идею, закладывать площади и возможности на будущее и подкрепляться аналитикой. Иначе потом идея может умереть. Но они отказались.
– В продолжение темы об индустриальных парках: кто кого ищет, вы арендаторов, или они вас?
– Где-то сами размещаем информацию, где-то риелторы находят. Это длительная работа, довольно непростая. С одной организацией до сих пор судимся, выясняем «юридическое недопонимание». Партнеры недобропорядочные попались.
– Что должно произойти в стране, чтобы культура ведения бизнеса изменилась и не случались такие «недопонимания»?
– Власть должна захотеть, чтобы это произошло, чтобы ей это было интересно и выгодно.
– Разве ведение честного бизнеса зависит от желания власти?
– У нас в стране по-другому не бывает. Внешне кажется, что есть подвижки, но на деле чиновники не заинтересованы в конечном результате – как объект будет эксплуатироваться, будет ли он полезным и комфортным для потребителя? Техзадания и проекты написаны без учета мнения тех, кто будет эксплуатировать площадки, и на них тратится огромное количество средств, включая деньги на то, чтобы все переделать как надо. Спрашиваем: «Вы почему так делаете?», обычно отвечают: «Мы не могли поступить иначе, у нас план, мы не можем от него отступить, иначе у нас объект не примут и оплату не проведут».
– Проект ведь можно изменить…
– А кто его будет менять? Проектировщики разве заинтересованы в том, как будет эксплуатироваться здание? Нет. Строителям это важно? Нет. И получается такая цепочка, где всем, кроме заключительного потребителя, главное – выполнить задачу, лишь бы за работу заплатили. Вот и выходит, что все что-то делают, и получается костюм по Райкину из разряда: «К конструкции есть претензии? Нет, забетонированы намертво». И где ни возьми – везде так. В профессиональном сообществе мы все это обсуждаем, сетуем, улыбаемся: куда деваться, мы же в России живем не благодаря, а вопреки…
– А как власть может повлиять на то, чтобы такого не было?
– Проблемы эти, они откуда возникли? Приведу пример. В последнее время небольшие проектные компании загибаются в нынешних условиях, где они получают деньги только по готовности проекта. А до этого времени нужно же людей кормить – за счет чего? И налоги никто не отменял. Сейчас если зарплату не заплатишь, то сразу нарвешься на штраф. Нужно поощрять инициативы, позволять им завоевывать свою долю на рынке, а не душить их.
Есть у меня иллюстрирующая эту мысль история. Глава Вагайского района в Тюмени хвастался – школу построили, новую, оригинальную. Меня все удивляло, как они умудрились ее построить, был же строгий план. Оказалось, они изменили в нем около
60 %. Просто куратор проекта взял ответственность за результат на себя, в итоге построили то, что хотел конечный потребитель. Не каждый готов ручаться за проекты и нарушать регламент, чтобы сделать действительно хороший объект. Он не побоялся. И такие инициативы нужно ценить и поощрять.
– Однажды кто-то сказал, что с государством работать нельзя – рано или поздно сядешь…
– Тем не менее большинство сейчас смотрят, какие есть льготы и можно ли ими воспользоваться. Я наоборот отказываюсь. Лучше не мешайте нам, как-нибудь сами справимся.
– Вам заказов хватает?
– Мы их сами генерируем. Хоть и приходится порой бодаться. А благодаря чему мы на рынке? Внутренним процессам, за счет энергии и собранной команды идет движение вперед. И я считаю, что в бизнесе главное – энергия руководителя, его умение подбирать специалистов и создавать из них слаженный коллектив, развивать проекты, видеть новые направления для работы, разрабатывать стратегию.… Пока есть в компании двигатель энергии – все работает, как только он угасает или уходит – все загибается. Но мы этого не допустим)) ///
Мы поговорили с Евгением Ереминым, генеральным директором группы компаний «Курс», о тренде на строительство индустриальных парков, об участии компании в новом экологическом проекте и о том, возможно ли изменить культуру ведения бизнеса в сторону «честной игры». Об этом и многом другом – в нашем интервью.
– В одном из подразделений нашего НИИ, «Научно-образовательном центре нанотехнологий», основанном в 2008 году, мы создаем функциональные, конструкционные материалы, а также проводим исследования химического состава, структуры, морфологии и частично свойств материалов.
У нас есть ряд интересных проектов, в основном они касаются академической составляющей, но один из них – яркий пример взаимодействия науки с реальным сектором экономики. я говорю о сотрудничестве с группой компаний «Курс» и совместной разработке материалов. Евгений Михайлович очень увлечен реализацией этого проекта. «Курс» заинтересован в прикладных исследованиях, их переходе в опытно-конструкторские разработки и последующее внедрение. А мы в рамках сотрудничества как раз предлагаем материал, разработанный внутри университета, с тем чтобы на взаимовыгодных условиях обеспечить его внедрение на предприятиях металлургического или машиностроительного комплекса в рамках очистных сооружений сточных вод и объектов энергетики.
– Два года назад, во время прошлого интервью, вы говорили, что бизнес-суета отнимает много времени от планирования стратегии. Пандемия дала вам необходимое время, чтобы заняться данными вопросами, или принесла больше проблем?
– Переосмысление того, как вести бизнес, произошло однозначно. На рынке стало меньше конкуренции, некоторые компании не выдержали новых условий, в которых работать стало гораздо сложнее. Во-первых, болеют люди, я сам переболел, и это накладывает серьезный отпечаток на здоровье и трудовые способности. Во-вторых, вопросы с заказчиками теперь решаются по удаленке, это не всегда удобно. Зато мы научились общаться друг с другом, вести переписку, проводить онлайн-конференции. Теперь можно поучаствовать в любом заседании, не вставая с рабочего места, при этом отдача та же: ты видишь всех участников, выстраиваешь с ними контакты, не тратя время и энергию на перемещения. Конечно, потом все равно встречаемся вживую, чтобы обсудить дальнейшие совместные решения.
В глобальном смысле наша стратегия сейчас меняется. Избавляемся от тех направлений, которые не смогли доказать свою эффективность.
– На чем сейчас вы максимально сфокусированы?
– В последнее время внимание рассредоточено на несколько проектов. Недавно провели реконструкцию на территории индустриального парка «Потанино», появились первые арендаторы. К нам идут клиенты с НИОКРами (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами), с ЮУрГУ занимаемся экологическим проектом. Сегодня эта тема как никогда актуальна, и в ней есть возможности зарабатывать деньги. Для одной из крупных энергетических компаний проводим испытания по очистке воды от меди на ТЭЦ, это одно из приоритетных направлений их организации – экологизация производства. Первые результаты уже есть, надеюсь, у нас все получится.
– Перечисленные вами направления такие разные. Как вы погружаетесь в тему с ними, для этого, наверное, требуются определенные компетенции?
– Конечно, для этого нужно в первую очередь самому изучать все, смотреть. Но я сторонник того, что все знать невозможно. И если ты подобрал надежных партнеров с хорошими компетенциями, выстроил правильное взаимодействие, то результат не заставит долго ждать. По такому пути мы и идем. В течение пяти лет мы пытались реализовать проект с ЮУрГУ, но не могли найти точки соприкосновения. Но как только в университет пришла новая молодая команда, нацеленная на результат, процесс сразу сдвинулся.
По ТЭЦ была другая история. Мы выиграли тендер на строительство очистных сооружений на электростанции. Когда начали подробно изучать техзадание, возникли сомнения из-за жестких санкций: мы можем построить объект, но если результата он не даст, деньги нам никто не заплатит, а мы должны будем выплатить штраф. Поэтому мы полтора года «готовились», проводили НИОКРы. «Перелопатили» около шестидесяти компаний, чтобы провести совместные испытания на ТЭЦ и доказать заказчику, что техзадание, которое сформулировано, не работает и результата не даст. Как итог – мы добавили дополнительную ступень очистки, что привело нас к нужному эффекту. Заказчик сначала выставил нам штраф за самодеятельность на 65 миллионов, а потом мы смогли их переубедить. Санкции с нас сняли, затраты по минимуму покрыли.
– Затраты – это те средства, которые вы потратили на проведение НИОКРов?
– Частично – да. Недавно разыграли новый тендер, в нем участвовали мы и немцы, которые декларировали потрясающий результат и предлагали цену значительно ниже. Тем не менее выбрали нас, потому что мы себя зарекомендовали как проффесионалы, к нам сформировалось доверие. К ноябрю-декабрю должны завершить испытания, установки уже смонтированы, работают, программа полностью проработана. Помимо этого, проводим исследования по применению сорбента, который разрабатываем вместе с ЮУрГУ.
– Значит, вы будете строить очистные сооружения, которые будут задерживать и забирать медь из отработанной воды?
– Не только медь, еще железо и нефтепродукты. Дело в том, что, кроме этих компонентов, в воде есть множество других примесей, и избавляться от них из такой сложной субстанции как Н2О довольно трудно. По требованиям предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воде не должна превышать одну тысячную миллиграмма на литр. Благодаря системе очистки предприятия сбрасывают воду на два порядка чище, чем та, которую мы забираем из водоемов для потребления. Такие вот реалии.
Так или иначе свою задачу мы выполняем. Первые испытания дают результат – меди в воде нет. Сейчас добиваемся того, чтобы наша опытная установка достигла производительности очистки 250 кубов за час.
Плюс сейчас с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК) и «Русской медной компанией» (РМК) ведем переговоры о том, чтобы при помощи сорбента провести на их территориях пробную очистку воды от тяжелых металлов.
– Получается, это практическое применение научных разработок?..
– Да, те самые, от ЮУрГУ, как раз стараемся внедрить их, хоть это и непростой путь. Уже в сентябре мы планируем подписать договор на проведение НИОКРа на УГМК. Мы уже провели лабораторное испытание, взяли пробы грунта и воды на пяти точках в Свердловской области. Получили классный результат, сорбенты работают! Отправили отчеты свердловчанам, первый этап завершен. Следующий – провести исследования непосредственно на их площадках, чтобы посмотреть, как будет вести себя сорбент на разных стадиях.
Первая – очистка воды в статическом состоянии. Набираем емкость, опускаем в нее сорбент и наблюдаем, насколько эффективно он вбирает в себя металлы. Вторая стадия – в динамике, когда обработку будет проходить проточная вода.
Самое сложное – это очистка почвы. Как проходит ее рекультивация? Мы либо насыпаем сорбент сверху, либо бурим землю и загружаем его внутрь. Технологии разные, мы еще смотрим, наблюдаем, какой способ выбрать. Мало того, на него еще нужно получить экологический и санитарно-гигиенический сертификаты. И многое другое…
– Сколько средств вы инвестируете в эти технологии?
– Несколько миллионов. Обычно как мы выстраиваем взаимоотношения? Говорим партнерам: «Ребята, давайте мы проведем опытные испытания каждый за свои деньги, а потом объединимся вместе в консорциум, будем зарабатывать на промышленных проектах».
– С кем вместе?
– Допустим, по «Фортуму» мы пробовали работать с разными компаниями, в том числе с ребятами из Москвы и Томска, но в итоге заключили соглашения с Петербургом и Екатеринбургом. Наши партнеры – технологи, производители оборудования, им это интересно, ведь если они освоят новые методы очистки, то дальше будут подключаться к серьезным бизнес-проектам. Взять, к примеру, работу с ЮУрГУ. Они дают нам рецептуру, а мы вместе с компанией, которая занимается производством пеностекла (они, кстати, размещаются у нас в технопарке «Потанино»), будем производить сорбент по технологии университета. Сейчас мы вместе с ними заключаем договор, проводим пробные испытания, обсуждаем варианты сотрудничества – либо организуем совместное предприятие, либо на каких-то других условиях будем взаимодействовать. Предварительно мы все обсудили, собственник не против подобного формата работы.
Такова наша стратегия: инвестируем небольшие средства, собираем партнеров, кому интересно осваивать это направление, а дальше смотрим, как раскрутить эту тему в бизнес. А действовать в одиночку бессмысленно. Ну, купим мы оборудование за семьдесят миллионов, начнем действовать – а результата нет. а мы уже средства зря потратили…
– Как вы считаете, такие гиганты, как УГМК и РМК, много ли сил, средств и времени тратят на экологические проекты?
– В последнее время бизнес стал чаще задумываться о социальной ответственности. И это верное решение. С точки зрения экологии требования ужесточились, власть начала регулировать эти вещи и поощрять инициативы, активно спонсировать проекты по уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Конечно, на этом фоне появляется много шарлатанов, которые обещают отличный результат, а на деле просто обманывают. Такое происходит нередко, когда идея отличная, но ее исполнение ужасно. Не последнюю роль играет в этом человеческий фактор. Поэтому сейчас важно не просто заниматься такими проектами, а делать их качественно и эффективно.
– Все, что мы обсудили, – это работа на будущее, а чем вы заняты сейчас? Что дает вам хлеб на сегодняшний день?
– Строительство, основные доходы оттуда, часть из них дотирую в «Челябтяжмашпроект». С учетом того, что у нас много направлений, я решил ликвидировать эти дотации: выживут – хорошо, не выживут – это уже другой вопрос. Многие институты закрылись, и прекращать проектную деятельность для меня очень болезненно. Если в 2008 году мы говорили, что это наш флагман, наша история, наша гордость, то сейчас он нам в тягость. придется оптимизировать, в том числе и ейский проект по строительству 34 коттеджей придется заморозить. Мы работали в этих сферах факультативно: время от времени есть заказы – ну и славно. Сейчас я вижу перспективы в экологической теме.
– Какие сейчас тенденции в коммерческом и промышленном строительстве?
– Коммерческое строительство уходит в сторону логистики и помещений для онлайн-торговли и крупных ретейлеров. Это и склады, и дарксторы, и логистические комплексы, которые оснащены всем необходимым. Они строятся в большом количестве, например, для Ozon и AliExpress. Сбер тоже не остается в стороне. Причем Челябинская область никогда не была востребована в этом плане, в основном бурно развивался Екатеринбург. Теперь заинтересовались и нами.
– А как поживает индустриальный парк?
– На территории браунфилд (технопарка «Потанино») мы уже реконструировали семь тысяч квадратных метров, осталось доделать столько же. Все площадки уже сданы в аренду. Пока у нас крупных арендаторов пять, скоро один большой полностью займет достраиваемую площадку.
– Эта тема востребована?
– Конечно, и бум на открытие предприятий можно было спрогнозировать. Вот смотрите. Какая у нас раньше парадигма была? Потребительская – продаешь нефть, покупаешь готовую продукцию за рубежом. Так сложилось, что промышленность была разрушена. сейчас пришло время возрождать ее и строить новые заводы.
Недавно ездили в Ханты-Мансийский автономный округ, у них тоже востребованы индустриальные парки. Смотрели их площадки, они тоже проводят реконструкцию и сдают в аренду участки, кроме того, получают деньги по федеральной программе на компенсацию этого строительства. Молодцы, ребята! Это показатель, что процессы развития промышленности параллельно развиваются по всей стране.
– Конкурент вашего партнера по проекту ТЭЦ, который снабжает электричеством соседний с Челябинском Курган, активно застраивает индустриальный парк у себя в Зауралье. В нем разместились три якорных предприятия, все они принадлежат энергокомпании.
– Классика! Когда «Конар» построил свой первый индустриальный парк в Челябинске, Валерий Вячеславович разместил там все свои производства. Почему? Все просто – территория дает льготы, для компании это форма оптимизации активов. Бондаренко восстановил старые здания (как мы в «Потанино») на «Станкомаше», там же поселил совместное производство «Конара» с итальянцами – «СПК-Чимолаи». Потом он понял: зачем подстраиваться под рамки реконструированных цехов, когда можно создать площади по тем критериям, которые нужны именно им? Теперь они сносят старое здание и строят новое.
А вот инфраструктуру следует продумывать заранее…
– О чем это вы?
– Мы предлагали им свои услуги в качестве проектировщиков – спрогнозировать объем площадей с прицелом на будущее, продумать всю инфраструктуру к ним. Не знаю, как сейчас, но раньше стратегия «Конара» была такова: «Мы не знаем, что ждет нас завтра, поэтому, зачем сейчас все это закладывать?» Говорю им: «Возьмите с запасом, зачем каждый раз к цеху новую подстанцию или котельную строить?» Все-таки инженерная мысль должна опережать идею, закладывать площади и возможности на будущее и подкрепляться аналитикой. Иначе потом идея может умереть. Но они отказались.
– В продолжение темы об индустриальных парках: кто кого ищет, вы арендаторов, или они вас?
– Где-то сами размещаем информацию, где-то риелторы находят. Это длительная работа, довольно непростая. С одной организацией до сих пор судимся, выясняем «юридическое недопонимание». Партнеры недобропорядочные попались.
– Что должно произойти в стране, чтобы культура ведения бизнеса изменилась и не случались такие «недопонимания»?
– Власть должна захотеть, чтобы это произошло, чтобы ей это было интересно и выгодно.
– Разве ведение честного бизнеса зависит от желания власти?
– У нас в стране по-другому не бывает. Внешне кажется, что есть подвижки, но на деле чиновники не заинтересованы в конечном результате – как объект будет эксплуатироваться, будет ли он полезным и комфортным для потребителя? Техзадания и проекты написаны без учета мнения тех, кто будет эксплуатировать площадки, и на них тратится огромное количество средств, включая деньги на то, чтобы все переделать как надо. Спрашиваем: «Вы почему так делаете?», обычно отвечают: «Мы не могли поступить иначе, у нас план, мы не можем от него отступить, иначе у нас объект не примут и оплату не проведут».
– Проект ведь можно изменить…
– А кто его будет менять? Проектировщики разве заинтересованы в том, как будет эксплуатироваться здание? Нет. Строителям это важно? Нет. И получается такая цепочка, где всем, кроме заключительного потребителя, главное – выполнить задачу, лишь бы за работу заплатили. Вот и выходит, что все что-то делают, и получается костюм по Райкину из разряда: «К конструкции есть претензии? Нет, забетонированы намертво». И где ни возьми – везде так. В профессиональном сообществе мы все это обсуждаем, сетуем, улыбаемся: куда деваться, мы же в России живем не благодаря, а вопреки…
– А как власть может повлиять на то, чтобы такого не было?
– Проблемы эти, они откуда возникли? Приведу пример. В последнее время небольшие проектные компании загибаются в нынешних условиях, где они получают деньги только по готовности проекта. А до этого времени нужно же людей кормить – за счет чего? И налоги никто не отменял. Сейчас если зарплату не заплатишь, то сразу нарвешься на штраф. Нужно поощрять инициативы, позволять им завоевывать свою долю на рынке, а не душить их.
Есть у меня иллюстрирующая эту мысль история. Глава Вагайского района в Тюмени хвастался – школу построили, новую, оригинальную. Меня все удивляло, как они умудрились ее построить, был же строгий план. Оказалось, они изменили в нем около
60 %. Просто куратор проекта взял ответственность за результат на себя, в итоге построили то, что хотел конечный потребитель. Не каждый готов ручаться за проекты и нарушать регламент, чтобы сделать действительно хороший объект. Он не побоялся. И такие инициативы нужно ценить и поощрять.
– Однажды кто-то сказал, что с государством работать нельзя – рано или поздно сядешь…
– Тем не менее большинство сейчас смотрят, какие есть льготы и можно ли ими воспользоваться. Я наоборот отказываюсь. Лучше не мешайте нам, как-нибудь сами справимся.
– Вам заказов хватает?
– Мы их сами генерируем. Хоть и приходится порой бодаться. А благодаря чему мы на рынке? Внутренним процессам, за счет энергии и собранной команды идет движение вперед. И я считаю, что в бизнесе главное – энергия руководителя, его умение подбирать специалистов и создавать из них слаженный коллектив, развивать проекты, видеть новые направления для работы, разрабатывать стратегию.… Пока есть в компании двигатель энергии – все работает, как только он угасает или уходит – все загибается. Но мы этого не допустим)) ///
