Золотая лихорадка,
или где искать золото на Урале
Экспедиция на Воронцовское золоторудное месторождение
- Поедешь за золотом?
Вопрос явно не из 21-го века: ассоциации стройным рядом выстраиваются вокруг рассказов Джека Лондона – золотые прииски, Клондайк, изнуренные старатели под пылающим солнцем моют в реке золото. За него потом можно будет выручить деньги и не умереть с голода.
Стоп. Редакция. Шеф внимательно смотрит, как будто ждет чего-то… Точно, ответа ждет!
- Спрашиваешь! Конечно!
Не то, чтобы я была жадной до денег, хотя и думаю, что с ними намного интереснее, но ведь это настоящее приключение! А может, американцы времен великой депрессии не только от бедности ринулись на поиски золота? Азарт – вот что могло гораздо сильнее подстегивать их.
Кстати, Урал тоже в свое время охватывала «золотая лихорадка». Еще в начале восемнадцатого века крестьянин Ерофей Марков нашел в окрестностях нынешнего города Березовского (рядом с Екатеринбургом)
золотой самородок, положив тем самым начало отечественной золотодобыче. Когда в 1814 году штейгер
Лев Брусницын нашел первое в России рассыпное золото, на его добычу ринулись люди со всей страны.
Оно и понятно, рассыпное золото обходилось вчетверо дешевле, чем добыча из коренных месторождений.
В 1825 году в «Отечественных записках» появилось следующее сообщение: «И в самом угрюмом, неприступном севере Уральских гор обретено существование металла, бывшего доселе уделом благотворительнейших климатов знойных стран Америки. Прошедшего 1823 года открыто в Богословских заводах несколько приисков золотосодержащих песков». Основанием для открытия послужил как раз брусницынский опыт, дошедший до Богословских заводов. Осенью 1896 года управляющим Богословским округом был назначен статский советник Владимир Васильевич Воронцов. Новый главноуправляющий серьезно взялся за горнорудное дело и его сырьевую базу. Начались обширные разведочные работы, деятельность геологических партий была усилена вдвое.
Вместе с тем посыпался ряд новых открытий, и в сравнительно короткий срок (каких-то два года) Богословский округ в отношении рудоносности принял совершенно новый облик и значение. Неудивительно, что позже сам округ был переименован в Воронцовский. В 1985 году в этих местах было обнаружено одно из крупнейших на
Урале по запасам золота и уникальное по геологическому строению и типу минерализации Воронцовское золоторудное месторождение. Оно – цель нашего путешествия.
Девять утра. Мы возле контрольно-пропускного пункта ЗАО «Золото Северного Урала» - предприятия, которое занимается разработкой Воронцовского месторождения. «У них тут обстановка американская, представляете?», - Женя, наш фотограф, уже вовсю исследует местность. Мы сидим в Туареге, носа не высовываем, на улице -1°С. Однако понимаем, что выходить все равно придется: на проходной нас уже ждет Павел Сенников, помощник управляющего директора предприятия и по совместительству наш провожатый.
- Доброе утро! Давайте паспорта, вам пропуск выпишут, - доброжелательный, вежливый, типичный менеджер предприятия-гиганта.
- Сразу на карьер поедем?
Действительно, чего ждать? Подумаешь, холод, старателям и не такое приходилось терпеть.
Карьер «Воронцовский» меньше всего походит на золоторудный: с высоты он похож на тарелку песка с расчерченными на ней дорожками, по которым, как игрушечные, ездят грузовики. Странно, но ни одного человека нам на глаза не попалось. Они что, совсем-совсем не ищут золото?
Когда друзья прознали о том, что я еду в «золотую» экспедицию, буквально начали осаждать просьбами урвать «хотя бы килограммчик» драгметалла. Не скажу, чтобы я очень надеялась найти самородок, но в глубине души все равно теплился огонек надежды…
- Поясню сразу: предприятие добывает золото не рассыпное, а из руды. По сути, на нашем предприятии действует полный горнометаллургический производственный цикл. Подобным образом из руд производятся медь, алюминий, железо и прочие металлы, - сказать, что слова Павла меня разочаровали, значит, не сказать ничего. Я так не играю. Разворачиваемся, едем обратно!
Вопрос явно не из 21-го века: ассоциации стройным рядом выстраиваются вокруг рассказов Джека Лондона – золотые прииски, Клондайк, изнуренные старатели под пылающим солнцем моют в реке золото. За него потом можно будет выручить деньги и не умереть с голода.
Стоп. Редакция. Шеф внимательно смотрит, как будто ждет чего-то… Точно, ответа ждет!
- Спрашиваешь! Конечно!
Не то, чтобы я была жадной до денег, хотя и думаю, что с ними намного интереснее, но ведь это настоящее приключение! А может, американцы времен великой депрессии не только от бедности ринулись на поиски золота? Азарт – вот что могло гораздо сильнее подстегивать их.
Кстати, Урал тоже в свое время охватывала «золотая лихорадка». Еще в начале восемнадцатого века крестьянин Ерофей Марков нашел в окрестностях нынешнего города Березовского (рядом с Екатеринбургом)
золотой самородок, положив тем самым начало отечественной золотодобыче. Когда в 1814 году штейгер
Лев Брусницын нашел первое в России рассыпное золото, на его добычу ринулись люди со всей страны.
Оно и понятно, рассыпное золото обходилось вчетверо дешевле, чем добыча из коренных месторождений.
В 1825 году в «Отечественных записках» появилось следующее сообщение: «И в самом угрюмом, неприступном севере Уральских гор обретено существование металла, бывшего доселе уделом благотворительнейших климатов знойных стран Америки. Прошедшего 1823 года открыто в Богословских заводах несколько приисков золотосодержащих песков». Основанием для открытия послужил как раз брусницынский опыт, дошедший до Богословских заводов. Осенью 1896 года управляющим Богословским округом был назначен статский советник Владимир Васильевич Воронцов. Новый главноуправляющий серьезно взялся за горнорудное дело и его сырьевую базу. Начались обширные разведочные работы, деятельность геологических партий была усилена вдвое.
Вместе с тем посыпался ряд новых открытий, и в сравнительно короткий срок (каких-то два года) Богословский округ в отношении рудоносности принял совершенно новый облик и значение. Неудивительно, что позже сам округ был переименован в Воронцовский. В 1985 году в этих местах было обнаружено одно из крупнейших на
Урале по запасам золота и уникальное по геологическому строению и типу минерализации Воронцовское золоторудное месторождение. Оно – цель нашего путешествия.
Девять утра. Мы возле контрольно-пропускного пункта ЗАО «Золото Северного Урала» - предприятия, которое занимается разработкой Воронцовского месторождения. «У них тут обстановка американская, представляете?», - Женя, наш фотограф, уже вовсю исследует местность. Мы сидим в Туареге, носа не высовываем, на улице -1°С. Однако понимаем, что выходить все равно придется: на проходной нас уже ждет Павел Сенников, помощник управляющего директора предприятия и по совместительству наш провожатый.
- Доброе утро! Давайте паспорта, вам пропуск выпишут, - доброжелательный, вежливый, типичный менеджер предприятия-гиганта.
- Сразу на карьер поедем?
Действительно, чего ждать? Подумаешь, холод, старателям и не такое приходилось терпеть.
Карьер «Воронцовский» меньше всего походит на золоторудный: с высоты он похож на тарелку песка с расчерченными на ней дорожками, по которым, как игрушечные, ездят грузовики. Странно, но ни одного человека нам на глаза не попалось. Они что, совсем-совсем не ищут золото?
Когда друзья прознали о том, что я еду в «золотую» экспедицию, буквально начали осаждать просьбами урвать «хотя бы килограммчик» драгметалла. Не скажу, чтобы я очень надеялась найти самородок, но в глубине души все равно теплился огонек надежды…
- Поясню сразу: предприятие добывает золото не рассыпное, а из руды. По сути, на нашем предприятии действует полный горнометаллургический производственный цикл. Подобным образом из руд производятся медь, алюминий, железо и прочие металлы, - сказать, что слова Павла меня разочаровали, значит, не сказать ничего. Я так не играю. Разворачиваемся, едем обратно!
Однако масштабы впечатляют. В «Воронцовском» добывается руда объемом около миллиона тонн в год, чуть меньше – девятьсот тонн – ежегодно перерабатывается на двух местных фабриках. Месторождение представлено двумя видами руд: окисленными и первичными, содержание золота в них варьируется, но в среднем достигает 5 – 7 граммов на тонну переработанного материала. Только представьте: тонна руды ради одного кольца!
Поисковые работы и предварительная разведка были проведены на Воронцовском золоторудном месторождении еще в восьмидесятых годах прошлого века. В 1992 году правительством Свердловской
области был объявлен конкурс на право доразведки и освоения месторождения. В 1993 году победу в конкурсе одержало специально созданное под этот проект ЗАО «Золото Северного Урала», которое получило лицензию сроком на 25 лет. В 1993-1998 годах предприятие провело детальную разведку месторождения: были изучены технологические свойства руд, утверждены кондиции в ÃКЗ и подсчитаны запасы месторождения. Однако работы не велись. Специалисты ездили по золотопромышленным предприятиям, искали технологии. Долго не
знали, как начать добывать золото из руд: метод этот для России нетрадиционный. Поэтому хоть и знали, что золото в этих местах есть, а как его добывать? Бог его знает…
Осенью 1998 года контрольный пакет акций ЗАО «Золото Северного Урала» был приобретен ОАО «Полиметалл» - молодой, вертикально интегрированной группой компаний по эффективному управлению проектами освоения рудных месторождений. Когда в 1999 году на предприятии поднимали первый ковш руды, многие не верили в то, что этот проект вообще состоится. Его называли авантюрой: ведь в СССР опыта по добыче рудного золота практически не было. Да к тому же «Полиметалл» вошел на рынок, выражаясь современным языком, как инновационное предприятие, базируясь не на постсоветских активах, а создавая все производство буквально «с чистого листа» (так называемый greenfield project).
Сразу после покупки «Золота» «Полиметаллом» на Воронцовском месторождении началось строительство инфраструктуры, а в 2000 году был получен первый грамм драгоценного металла технологией кучного выщелачивания, которая раньше в подобных климатических условиях в России не применялась.
- Замерзли? – вопрос Павла носит явно риторический характер.
- Сейчас на первую фабрику поедем: сначала посмотрите, как мы производим золото методом кучного выщелачивания. Потом на вторую. Там работаем по технологии «уголь в пульпе», - наш провожатый явно не щадит замерзших, да даже задубевших, журналистов.
- Заодно и погреетесь, - добавляет он, глядя на наши посиневшие лица.
Поисковые работы и предварительная разведка были проведены на Воронцовском золоторудном месторождении еще в восьмидесятых годах прошлого века. В 1992 году правительством Свердловской
области был объявлен конкурс на право доразведки и освоения месторождения. В 1993 году победу в конкурсе одержало специально созданное под этот проект ЗАО «Золото Северного Урала», которое получило лицензию сроком на 25 лет. В 1993-1998 годах предприятие провело детальную разведку месторождения: были изучены технологические свойства руд, утверждены кондиции в ÃКЗ и подсчитаны запасы месторождения. Однако работы не велись. Специалисты ездили по золотопромышленным предприятиям, искали технологии. Долго не
знали, как начать добывать золото из руд: метод этот для России нетрадиционный. Поэтому хоть и знали, что золото в этих местах есть, а как его добывать? Бог его знает…
Осенью 1998 года контрольный пакет акций ЗАО «Золото Северного Урала» был приобретен ОАО «Полиметалл» - молодой, вертикально интегрированной группой компаний по эффективному управлению проектами освоения рудных месторождений. Когда в 1999 году на предприятии поднимали первый ковш руды, многие не верили в то, что этот проект вообще состоится. Его называли авантюрой: ведь в СССР опыта по добыче рудного золота практически не было. Да к тому же «Полиметалл» вошел на рынок, выражаясь современным языком, как инновационное предприятие, базируясь не на постсоветских активах, а создавая все производство буквально «с чистого листа» (так называемый greenfield project).
Сразу после покупки «Золота» «Полиметаллом» на Воронцовском месторождении началось строительство инфраструктуры, а в 2000 году был получен первый грамм драгоценного металла технологией кучного выщелачивания, которая раньше в подобных климатических условиях в России не применялась.
- Замерзли? – вопрос Павла носит явно риторический характер.
- Сейчас на первую фабрику поедем: сначала посмотрите, как мы производим золото методом кучного выщелачивания. Потом на вторую. Там работаем по технологии «уголь в пульпе», - наш провожатый явно не щадит замерзших, да даже задубевших, журналистов.
- Заодно и погреетесь, - добавляет он, глядя на наши посиневшие лица.
Подъезжаем к фабрике с угрожающим названием «ЗИФ КВ», что в переводе на человеческий язык означает «Золотоизвлекательная фабрика «Кучное выщелачивание». Сюда огромные сорокапятитонные грузовики «Кomatsu» привозят окисленную руду из карьера. Здесь и начинаются все метаморфозы. Сначала руда, которую, признаюсь, с большой натяжкой можно назвать золотой, поскольку выглядит она как простая засохшая глина, дробится в конусной дробилке. Затем по системе транспортерных лент «уезжает» на
доизмельчение, где происходит ее агломерация, или окомковывание рудного материала цементом. Вам наверняка интересно, почему для получения благородного металла используется абсолютно плебейский строительный материал. Нам тоже. Спрашиваем.
- По технологии «кучного выщелачивания» руда, уложенная в штабеля, кучи, орошается растворами. Но вы же знаете, как глина ведет себя, если на нее воздействовать водой? Она слипается и кольматируется, как говорят наши специалисты. А кольматированная руда воду не пропускает. Технологический процесс будет нарушен.
Пока все идет по плану, результатом агломерации становится окатыш. Таким не совсем романтичным названием именуют комочки измельченной руды, которые на следующем этапе отсыпаются в штабеля странным механизмом, похожим на луноход. «Это стакер-отвалообразователь, с его помощью отсыпаются штабеля на подготовленные основания», - поясняет наш неугомонный гид. Заранее возведенные основания
представляют собой мощные гидросооружения: сначала выкладывается изоляционная пленка, на нее – слой щебня, далее слой песка, глины, потом снова пленка, на которую затем укладываются перфорированные пластиковые трубы, дренажная система и система стока. Технология такова: сверху подаются специальные растворы, которые растворяют золото и вместе с ним стекают вниз на основания. Таким образом, наш
драгметалл превращается в жидкую фазу.
- Интересно, что это за растворы способны растворять золото? «Царская водка»?
- И цианиды, - бросает Павел. Но тут же спешит уверить нас в том, что они никак не вредят ни людям, работающим на предприятии, ни местной природе. Химические растворы разлагаются на составляющие и превращаются в удобрения.
-У нас знаете какие кусты вырастают там, где эти штабеля выкладываются? Вот такенные, под два метра! И зайцы бегают.
- Зайцы тоже под два метра?
- Да что вы, зайцы нормальные. По крайней мере с тремя глазами и шестью лапами их еще никто не видел.
На следующем этапе насосная станция перекачивает на фабрику продуктивный раствор – тот самый, в котором присутствует золото на молекулярном уровне. Там на специальной установке «Мэрил Кроу» частицы золота осаждаются на «цинковую постель» и происходит обратный перевод металла в твердую фазу. Со стороны полученный материал походит на тот же цемент. Но мы-то знаем, что в нем содержится высокая концентрация
золота, примерно в тридцать-сорок процентов, поэтому относимся к нему почти с таким же почтением, с каким относятся к человеку, который, что называется, selfmade, или «сделал себя сам». Как говорят у нас в России: «Выбрался из грязи в князи» В нашем случае эти слова можно понимать буквально.
Несмотря на свой достаточно невзрачный вид, цементат (так называется «благородный» цемент) при температуре в тысячу с лишним градусов в пирометаллургическом отделении удивительным образом превращается в почти что золото. Правда, это не заветные три девятки, а всего лишь полуфабрикат – сплав Доре, но содержание благородного металла в нем уже примерно семьдесят-восемьдесят процентов. Потом сплав уедет на аффинажный завод, там его очистят от сопутствующих совсем неблагородных металлов. И обратно вернется уже «fine gold», золото высшей пробы. За год на этой фабрике производится тонна сплава
Доре. На второй фабрике, куда мы уже вприпрыжку несемся за нашим гидом, сплава выпускается порядка четырех тонн. Там за основу взята руда первичная, а в ней золота на порядок больше.
«ЗИФ УВП» - она же «Золотоизвлекательная фабрика «Уголь в пульпе». Путь руды к золоту здесь начинается с шихтовки (смешивания): к «местному» сырью в пропорции один к трем подмешивают руду из Дегтярского месторождения. Ее везут почти из самого Екатеринбурга.
- А какой смысл в смешивании? Неужели рентабельно везти за сотни километров материал и здесь его перерабатывать?
- Поверьте, если бы это было нерентабельно, никто бы ее сюда не возил. После открытия Дегтярского месторождения наши геологи решили провести производственный эксперимент: зачастую бывает сложно все просчитать, приходится действовать эмпирически. Они сначала переработали партию одной дегтярской
руды, а потом смешали ее с воронцовской. Оказалось, что средний коэффициент извлечения в первом случае составил порядка 80 процентов, а во втором – 90 процентов.
- Интересно, с чем это связано?
- Вот такая синергия. Чудо.
доизмельчение, где происходит ее агломерация, или окомковывание рудного материала цементом. Вам наверняка интересно, почему для получения благородного металла используется абсолютно плебейский строительный материал. Нам тоже. Спрашиваем.
- По технологии «кучного выщелачивания» руда, уложенная в штабеля, кучи, орошается растворами. Но вы же знаете, как глина ведет себя, если на нее воздействовать водой? Она слипается и кольматируется, как говорят наши специалисты. А кольматированная руда воду не пропускает. Технологический процесс будет нарушен.
Пока все идет по плану, результатом агломерации становится окатыш. Таким не совсем романтичным названием именуют комочки измельченной руды, которые на следующем этапе отсыпаются в штабеля странным механизмом, похожим на луноход. «Это стакер-отвалообразователь, с его помощью отсыпаются штабеля на подготовленные основания», - поясняет наш неугомонный гид. Заранее возведенные основания
представляют собой мощные гидросооружения: сначала выкладывается изоляционная пленка, на нее – слой щебня, далее слой песка, глины, потом снова пленка, на которую затем укладываются перфорированные пластиковые трубы, дренажная система и система стока. Технология такова: сверху подаются специальные растворы, которые растворяют золото и вместе с ним стекают вниз на основания. Таким образом, наш
драгметалл превращается в жидкую фазу.
- Интересно, что это за растворы способны растворять золото? «Царская водка»?
- И цианиды, - бросает Павел. Но тут же спешит уверить нас в том, что они никак не вредят ни людям, работающим на предприятии, ни местной природе. Химические растворы разлагаются на составляющие и превращаются в удобрения.
-У нас знаете какие кусты вырастают там, где эти штабеля выкладываются? Вот такенные, под два метра! И зайцы бегают.
- Зайцы тоже под два метра?
- Да что вы, зайцы нормальные. По крайней мере с тремя глазами и шестью лапами их еще никто не видел.
На следующем этапе насосная станция перекачивает на фабрику продуктивный раствор – тот самый, в котором присутствует золото на молекулярном уровне. Там на специальной установке «Мэрил Кроу» частицы золота осаждаются на «цинковую постель» и происходит обратный перевод металла в твердую фазу. Со стороны полученный материал походит на тот же цемент. Но мы-то знаем, что в нем содержится высокая концентрация
золота, примерно в тридцать-сорок процентов, поэтому относимся к нему почти с таким же почтением, с каким относятся к человеку, который, что называется, selfmade, или «сделал себя сам». Как говорят у нас в России: «Выбрался из грязи в князи» В нашем случае эти слова можно понимать буквально.
Несмотря на свой достаточно невзрачный вид, цементат (так называется «благородный» цемент) при температуре в тысячу с лишним градусов в пирометаллургическом отделении удивительным образом превращается в почти что золото. Правда, это не заветные три девятки, а всего лишь полуфабрикат – сплав Доре, но содержание благородного металла в нем уже примерно семьдесят-восемьдесят процентов. Потом сплав уедет на аффинажный завод, там его очистят от сопутствующих совсем неблагородных металлов. И обратно вернется уже «fine gold», золото высшей пробы. За год на этой фабрике производится тонна сплава
Доре. На второй фабрике, куда мы уже вприпрыжку несемся за нашим гидом, сплава выпускается порядка четырех тонн. Там за основу взята руда первичная, а в ней золота на порядок больше.
«ЗИФ УВП» - она же «Золотоизвлекательная фабрика «Уголь в пульпе». Путь руды к золоту здесь начинается с шихтовки (смешивания): к «местному» сырью в пропорции один к трем подмешивают руду из Дегтярского месторождения. Ее везут почти из самого Екатеринбурга.
- А какой смысл в смешивании? Неужели рентабельно везти за сотни километров материал и здесь его перерабатывать?
- Поверьте, если бы это было нерентабельно, никто бы ее сюда не возил. После открытия Дегтярского месторождения наши геологи решили провести производственный эксперимент: зачастую бывает сложно все просчитать, приходится действовать эмпирически. Они сначала переработали партию одной дегтярской
руды, а потом смешали ее с воронцовской. Оказалось, что средний коэффициент извлечения в первом случае составил порядка 80 процентов, а во втором – 90 процентов.
- Интересно, с чем это связано?
- Вот такая синергия. Чудо.
Это не заветные три девятки, а всего лишь полуфабрикат – сплав Доре, но содержание благородного металла в нем уже примерно семьдесят-восемьдесят процентов. Потом сплав уедет на аффинажный завод, там его очистят от сопутствующих совсем неблагородных металлов. И обратно вернется уже «fine gold», золото высшей пробы.
После шихтовки руду увозят на рудоподготовительный комплекс, затем измельчают в три стадии.
Мы как раз проходим мимо «измельчительного» цеха. Здесь все гудит, вертится, шумит… Крутятся огромные
мельницы, железные барабаны. Внутри - дробленая руда и железные пятнадцатикилограммовые шары, которые превращают ее в пыль. Грохот такой, что в диспетчерской, куда мы зашли первым делом, дрожат окна. «Посмотрите, как у нас люди на предприятии работают». Мы видим девушку, которая просто сидит на стуле и неотрывно следит за действием, разворачивающимся на мониторе ее компьютера. Меньше всего она похожа на работника промышленного предприятия. «Это на машиностроительных заводах можно увидеть множество людей за станками в одном цехе. У нас такого нет, все процессы автоматизированы», - рассказывает Павел.
Мы как раз проходим мимо «измельчительного» цеха. Здесь все гудит, вертится, шумит… Крутятся огромные
мельницы, железные барабаны. Внутри - дробленая руда и железные пятнадцатикилограммовые шары, которые превращают ее в пыль. Грохот такой, что в диспетчерской, куда мы зашли первым делом, дрожат окна. «Посмотрите, как у нас люди на предприятии работают». Мы видим девушку, которая просто сидит на стуле и неотрывно следит за действием, разворачивающимся на мониторе ее компьютера. Меньше всего она похожа на работника промышленного предприятия. «Это на машиностроительных заводах можно увидеть множество людей за станками в одном цехе. У нас такого нет, все процессы автоматизированы», - рассказывает Павел.
Все же изредка нам попадаются люди в спецкостюмах и защитных касках. Но все равно это единицы, между тем на предприятии – это две фабрики, карьер и административное здание – трудятся порядка восьмисот человек, еще двести обслуживают «Золото Северного Урала» по аутсорсингу. Здесь вообще распространена эта схема, начиная от столовой и клининга и заканчивая перевозкой руды,
обслуживанием фабрик и ремонтом оборудования. «И где эти ваши восемьсот человек? Нас, что ли, испугались?»
- Они на карьере. Добывают руду. Горные работы, горная техника, геологическое сопровождение, лаборатории, работа фабрики, контроль технологических процессов… В автотранспортном цехе много народу: работы ведутся по 24 часа, на каждую единицу техники по четыре человека. Всего 25 грузовиков, итого – 100 человек только там. И так везде. Люди
работают посменно, - доходчиво объяснил нам Павел.
Мы отважились выйти в цех измельчения. Наш ответственный и, без сомнения, профессиональный гид без устали рассказывает о технологии.
обслуживанием фабрик и ремонтом оборудования. «И где эти ваши восемьсот человек? Нас, что ли, испугались?»
- Они на карьере. Добывают руду. Горные работы, горная техника, геологическое сопровождение, лаборатории, работа фабрики, контроль технологических процессов… В автотранспортном цехе много народу: работы ведутся по 24 часа, на каждую единицу техники по четыре человека. Всего 25 грузовиков, итого – 100 человек только там. И так везде. Люди
работают посменно, - доходчиво объяснил нам Павел.
Мы отважились выйти в цех измельчения. Наш ответственный и, без сомнения, профессиональный гид без устали рассказывает о технологии.
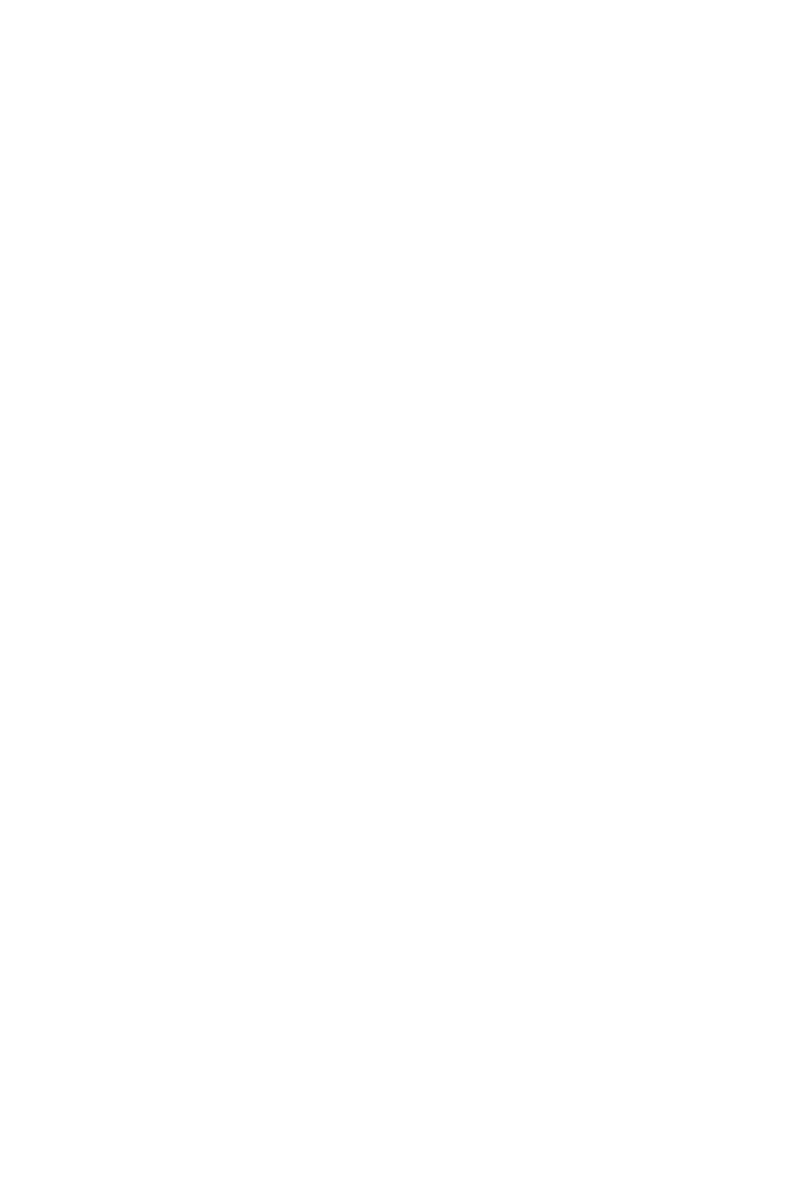
- Мельница руду измельчает окончательно, практически до микрон. Кстати, знаете, что происходит с железными шарами, которые внутри барабана крутятся вместе с рудой? Они просто в горох истираются. Павел демонстрирует нам «горох».
- Получается, в порошке присутствуют железные включения?
- Да каких включений там только нет! Но на последующих этапах мы от них избавимся.
Прямо в мельницах рудная мука обогащается растворами, содержащими все те же цианиды. Полученное вещество называется пульпой. Пульпу сгущают и направляют на «каскадное выщелачивание», где завершается процесс превращения золота в жидкую фазу. Проходим мимо лаборатории, там девушка в маске и специальном костюме раскатывает скалкой тесто. Звучит странно, а выглядит вообще абсурдно. Подходим ближе. Нет, это не тесто – какой-то странный желтоватого цвета песок.
- Что это она делает?
- Это экспресс-лаборатория, здесь контролируют содержание металла на каждом этапе. Все параметры проверяются: где-то реагент надо добавить, где-то, наоборот, недолить. Технологами все просчитывается.
Вместе с пульпой переходим на участок сорбции. Здесь пульпа прогоняется через угольные фильтры, на угле и остаются молекулы драгоценного металла. Обезметалленные растворы направляются на участок, где при помощи мощных пресс-фильтров оседают в так называемые «кек-хвосты» – промышленные отходы.
- Но ведь в этих хвостах еще остается какое-то количество золота?
- Увы, невозможно из руды выжать все до последнего микрона. Может быть, когда-нибудь мы найдем технологию переработки отходов.
После фильтрации насыщенный металлами уголь снимают и отправляют на десорбцию и электролиз. Там материал переводится обратно в твердую фазу в виде катодного осадка. В конце долгого пути катодный осадок отправляется на выплавку в то же пирометаллургическое отделение.
Мне казалось, что там, где выплавляют золото, безумно жарко. Ошибочка: здесь нет мартеновских печей, конвертеров и прочих атрибутов металлургического завода. Небольшое светлое помещение, в центре печка, похожая на ту, что есть в каждом деревенском доме. С одним лишь отличием - индукционные и рудотермические печи работают от электричества. Слишком уж здесь обычно и просто: очень сложно представить себе, что это – святая святых производства, что здесь происходит главное превращение
невзрачной пыли в золото. А происходит следующим образом: цементат нагревают до состояния огненно-красной лавы, затем выливают ее в специальную изложницу. Зрелище это, надо признать, потрясающее. Застывшая лава превращается в золотистый или серебристый, в зависимости от содержания в нем какого-либо металла, слиток. Выплавку на предприятии «Золото Северного Урала» производят два-три раза в месяц. К этому торжественному моменту рабочие должны наработать определенный запас цементата. Сам процесс плавки длится всего два-три дня. Далее – аффинаж.
Сплав Доре шершавый и тяжелый. Теперь, если в каком-нибудь фильме мне покажут, как герой несет чемодан, набитый золотыми слитками, я постаниславски скажу: «Не верю». Поднять такую ношу сможет разве что тяжелоатлет.
- Как видите, золота в чистом виде, даже в миллиграммах, здесь нет. Оно на уровне молекул. Суть всех технологий – сломать кристаллические решетки горной породы путем перемалывания и воздействия химреагентами. Золото улавливается, а все остальное отправляется. Это майнинговый способ добычи. Так, собственно, и другие металлы добываются: с производством алюминия технологии очень похожи. Только там содержание элемента выше. По большому счету это полностью металлургическое производство. Типичное.
- Получается, в порошке присутствуют железные включения?
- Да каких включений там только нет! Но на последующих этапах мы от них избавимся.
Прямо в мельницах рудная мука обогащается растворами, содержащими все те же цианиды. Полученное вещество называется пульпой. Пульпу сгущают и направляют на «каскадное выщелачивание», где завершается процесс превращения золота в жидкую фазу. Проходим мимо лаборатории, там девушка в маске и специальном костюме раскатывает скалкой тесто. Звучит странно, а выглядит вообще абсурдно. Подходим ближе. Нет, это не тесто – какой-то странный желтоватого цвета песок.
- Что это она делает?
- Это экспресс-лаборатория, здесь контролируют содержание металла на каждом этапе. Все параметры проверяются: где-то реагент надо добавить, где-то, наоборот, недолить. Технологами все просчитывается.
Вместе с пульпой переходим на участок сорбции. Здесь пульпа прогоняется через угольные фильтры, на угле и остаются молекулы драгоценного металла. Обезметалленные растворы направляются на участок, где при помощи мощных пресс-фильтров оседают в так называемые «кек-хвосты» – промышленные отходы.
- Но ведь в этих хвостах еще остается какое-то количество золота?
- Увы, невозможно из руды выжать все до последнего микрона. Может быть, когда-нибудь мы найдем технологию переработки отходов.
После фильтрации насыщенный металлами уголь снимают и отправляют на десорбцию и электролиз. Там материал переводится обратно в твердую фазу в виде катодного осадка. В конце долгого пути катодный осадок отправляется на выплавку в то же пирометаллургическое отделение.
Мне казалось, что там, где выплавляют золото, безумно жарко. Ошибочка: здесь нет мартеновских печей, конвертеров и прочих атрибутов металлургического завода. Небольшое светлое помещение, в центре печка, похожая на ту, что есть в каждом деревенском доме. С одним лишь отличием - индукционные и рудотермические печи работают от электричества. Слишком уж здесь обычно и просто: очень сложно представить себе, что это – святая святых производства, что здесь происходит главное превращение
невзрачной пыли в золото. А происходит следующим образом: цементат нагревают до состояния огненно-красной лавы, затем выливают ее в специальную изложницу. Зрелище это, надо признать, потрясающее. Застывшая лава превращается в золотистый или серебристый, в зависимости от содержания в нем какого-либо металла, слиток. Выплавку на предприятии «Золото Северного Урала» производят два-три раза в месяц. К этому торжественному моменту рабочие должны наработать определенный запас цементата. Сам процесс плавки длится всего два-три дня. Далее – аффинаж.
Сплав Доре шершавый и тяжелый. Теперь, если в каком-нибудь фильме мне покажут, как герой несет чемодан, набитый золотыми слитками, я постаниславски скажу: «Не верю». Поднять такую ношу сможет разве что тяжелоатлет.
- Как видите, золота в чистом виде, даже в миллиграммах, здесь нет. Оно на уровне молекул. Суть всех технологий – сломать кристаллические решетки горной породы путем перемалывания и воздействия химреагентами. Золото улавливается, а все остальное отправляется. Это майнинговый способ добычи. Так, собственно, и другие металлы добываются: с производством алюминия технологии очень похожи. Только там содержание элемента выше. По большому счету это полностью металлургическое производство. Типичное.
В декабре 2017 года предприятие выплавило
65-ю тонну золота. То ли еще будет: лицензия на недропользование действительна до 2024-го.
Дополнительно заскладирована руда, которой фабрикам хватит еще на несколько лет даже после завершения работ на Воронцовском месторождении – как минимум до 2030 года.
65-ю тонну золота. То ли еще будет: лицензия на недропользование действительна до 2024-го.
Дополнительно заскладирована руда, которой фабрикам хватит еще на несколько лет даже после завершения работ на Воронцовском месторождении – как минимум до 2030 года.
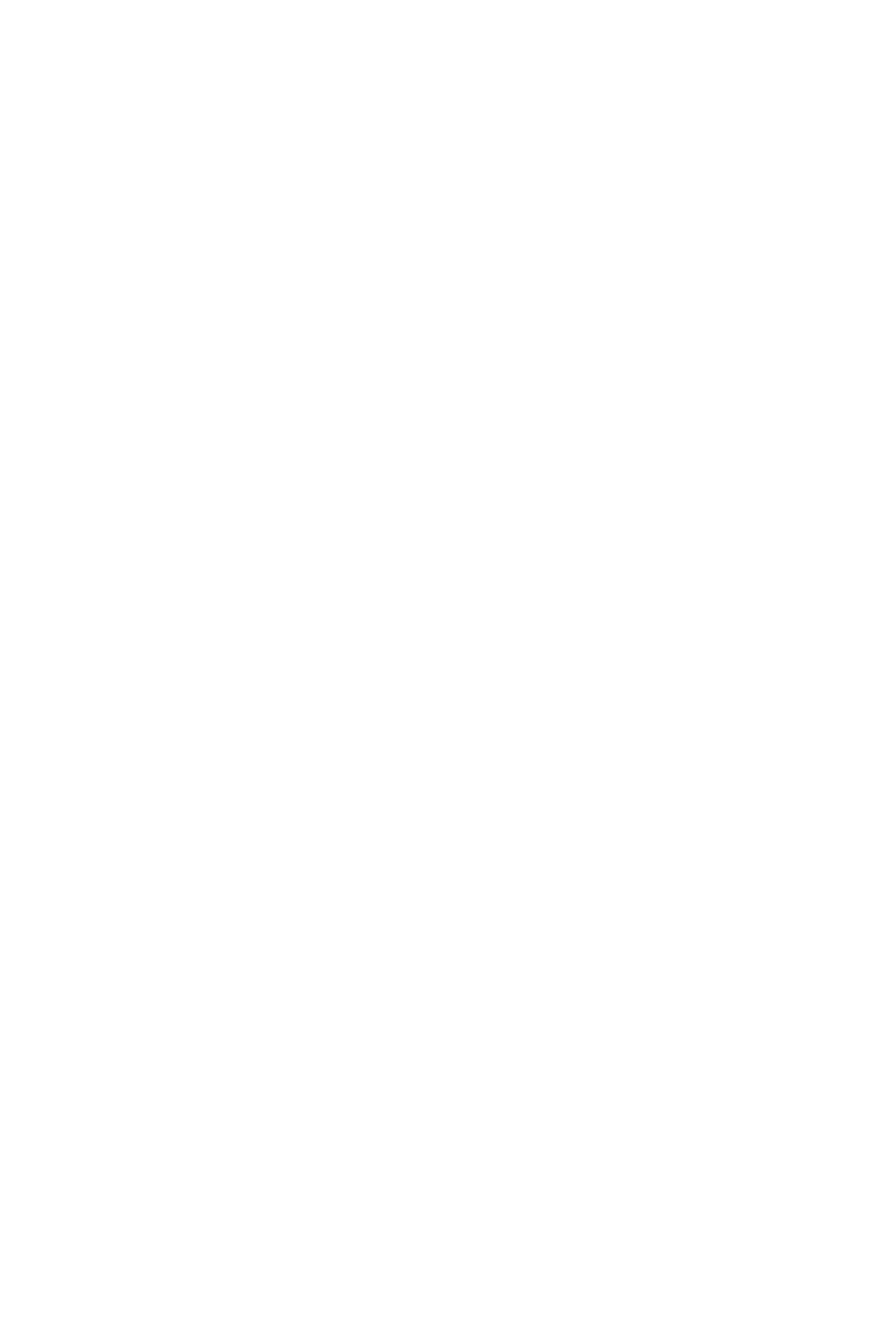
Сразу вспоминаю истории нахождения золотых самородков: «Большой треугольник» - самородок весом в 36 килограммов, который совершенно случайно нашел семнадцатилетний мастеровой Никифор Сюткин в 1842 году, «Лосиное ухо» - находка забойщика Ильи Пальцева весом в 13 килограммов, тоже случайная… Эх, мечты, мечты… Придется смириться с тем, что даже самый захудалый самородок мне найти не посчастливится.
Мы вышли на улицу. Заметно потеплело. Солнце, золото… Этот день мне запомнится как самый желтый.
- Получается, вы из любого камня сможете золото добыть? В этом золото есть? Протягиваю первый попавшийся кусок щебня.
- Ну не из любого… Хотя золото в принципе есть практически везде. Но вот в этом, например, камне его совсем мало.
- Откуда вы знаете?
- Вот ведь прицепилась! Да иначе бы он здесь, на обочине, не валялся. Наши геологи следят за сортировкой горных пород.
Кстати, к геологам здесь очень трепетно относятся: у предприятия довольно обширная геолого-разведочная программа. Здесь прекрасно понимают, что любое горнодобывающее производство имеет две точки: начало – обнаружение месторождения и конец – его истощение. Поэтому Воронцовское осваивается очень рационально: переработанная руда сортируется по содержанию. «Забалансовые» руды отправляются на склад. Когда цена за унцию поднимется тысяч до трех, эти руды, содержание золота в которых примерно два-три грамма на тонну, станет выгодно перерабатывать.
- Вопрос из области фантастики: что будет, если запасы золота исчерпают?
- Начнем перерабатывать руды с содержанием золота меньше грамма на тонну. Ну, или на Луну полетим – там
будем добывать золото.
Мы вышли на улицу. Заметно потеплело. Солнце, золото… Этот день мне запомнится как самый желтый.
- Получается, вы из любого камня сможете золото добыть? В этом золото есть? Протягиваю первый попавшийся кусок щебня.
- Ну не из любого… Хотя золото в принципе есть практически везде. Но вот в этом, например, камне его совсем мало.
- Откуда вы знаете?
- Вот ведь прицепилась! Да иначе бы он здесь, на обочине, не валялся. Наши геологи следят за сортировкой горных пород.
Кстати, к геологам здесь очень трепетно относятся: у предприятия довольно обширная геолого-разведочная программа. Здесь прекрасно понимают, что любое горнодобывающее производство имеет две точки: начало – обнаружение месторождения и конец – его истощение. Поэтому Воронцовское осваивается очень рационально: переработанная руда сортируется по содержанию. «Забалансовые» руды отправляются на склад. Когда цена за унцию поднимется тысяч до трех, эти руды, содержание золота в которых примерно два-три грамма на тонну, станет выгодно перерабатывать.
- Вопрос из области фантастики: что будет, если запасы золота исчерпают?
- Начнем перерабатывать руды с содержанием золота меньше грамма на тонну. Ну, или на Луну полетим – там
будем добывать золото.
Мы пообещали, что с Луны тоже сделаем репортаж, и начали собираться в дорогу. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но почему-то без золота возвращаться не хочется. Я нахожу камешек, который более или менее переливается на солнце желтоватым светом. Ну и пусть золота в чистом виде здесь нет, зато на
уровне молекул оно все равно присутствует. Я прячу камушек в карман и забираюсь в машину. К тому времени, как мы добрались до дома, камешек превращается в песок. Начало чудесных превращений положено. ///
уровне молекул оно все равно присутствует. Я прячу камушек в карман и забираюсь в машину. К тому времени, как мы добрались до дома, камешек превращается в песок. Начало чудесных превращений положено. ///
Follow UNO on Facebook
